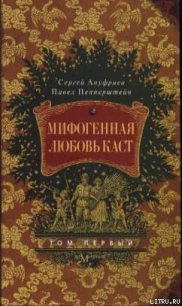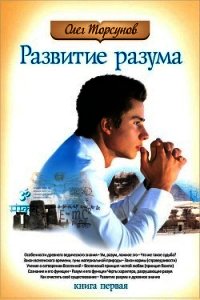Мифогенная любовь каст, том 2 - Пепперштейн Павел Викторович (книги бесплатно без регистрации полные TXT) 📗
Между тем старого Царицына уже не существовало. Возник новый город — Сталинград. Строились новые дома, старые разрушались. Но домик на Малой Брюхановской уцелел.
В первые дни войны Джерри Радужневицкий пытался записаться в армию, чтобы уйти на фронт, но ему было отказано: в бумагах сохранились свидетельства о его умопомешательстве. Он остался в Сталинграде, поступил работать на оборонное предприятие. Свою жену с маленьким ребенком отправил к родственникам, в Ташкент.
Как-то раз, когда немецкие войска уже замкнули страшное кольцо вокруг Сталинграда, Андрей Васильевич сидел один в своей квартире. За окнами темнел мрачный вечер. Только что закончилась бомбежка. Джерри вдруг вспомнил, что сегодня — четверг. По традиции он затеплил свечу и поставил ее в центр круглого стола, застеленного красной бархатной скатертью. На старой потертой скатерти отпечаталось множество кружочков от чайных чашек.
— Кружочки, кружочки… Эх, кружочки вы мои! — вздохнул Джерри.
Сколько веселых четвергов оставило тут свой скромный след! Как будто кто-то баловался с циркулем… Кружки. Окружности. Пересекающиеся нимбы. От недоедания у Андрея Васильевича слегка кружилась голова. Хотелось курить. Курева не было уже несколько дней. Чтобы развлечь себя, он потянулся к альбому с фотографиями.
Вот он, в белом парусиновом костюме, в лакированных туфлях, бойко танцует фокстрот со стройной Эммой Губер. Джерри страстно любил танцевать. Как некогда Андрей Белый в Берлине, он отплясывал исступленно, легко впадая в экстаз, на ходу выдумывая новые движения, новые па, синкопы, прыжки, выкрутасы, извивы, притопы, прихлопы, развороты и прочее. Обладая недюжинной физической силой, он легко поднимал партнершу за талию, перебрасывал ее через себя, ловил, вращал ею в воздухе, как шпагой.
Вот Танечка, еще девятнадцатилетняя, поет цыганскую песню под гитару. Горящие глаза как черные жемчужины… На смуглом плече — тень от самовара.
Вот снимки, сделанные на реке. Блестящий край лодки, мокрые тела плывущих за лодкой. Весло. Чье-то смеющееся лицо с зажмуренными глазами. Чья-то обритая наголо макушка. И рядом — другая макушка, прикрытая тюбетейкой.
А вот старая фотография. Члены кружка. В немного напряженных позах сидят и стоят вокруг стола — вот этого самого стола, в этой же самой комнате. И на столе — свеча. Полина Андреевна, полная, седоватая, в светлой шали на плечах в левой руке держит приоткрытую книгу: Вольфрам фон Эшенбах. Лейпцигское издание 1850 года. За ее спиной — Кира и Джерри, стоят, оба в полосатых костюмах. Кира держит в руке трость и перчатки. Смотрит внимательно, настороженно. Светлые усы, бородка. Вокруг — остальные. Шеботарев, сестры Ралдугины, Гневин, Левантович, Дрожжин, Никитников, Радный, Гоберг, Соня и Володя Кунины, Янтарев-Святский, Мариночка Дубишина, Орлов, Чинаев, Литвинов. Сидят: профессор Коневский и Артур Альбертович Фревельт, старый романо-германист по прозвищу Дверь.
Чинаев и Володя Кунин — в белогвардейских мундирах. Небезопасная фотография. Более здравомыслящий человек давно бы уничтожил ее. Но…
«Нам ли испытывать страх?» — усмехается Джерри. Он переворачивает последнюю страницу альбома и смотрит на магическую формулу, начертанную на синем картоне его рукой. Сложный, аккуратно выполненный рисунок. Множество линий, и каждая знает свое место. Ошибок тут позволить себе нельзя. Нельзя.
Он прикасается к схеме кончиками пальцев. Пальцы огрубели за время работы на фабрике. Но кожа все еще ощущает привычное, волнующее покалывание, как будто по линиям схемы, как по микроскопическим траншеям, пробегают крошечные ежи и дикобразы.
Внезапно в дверь постучали.
Джерри даже не вздрогнул. Он повернул к дверям свое исхудалое, но все еще залихватское лицо.
— Извольте войти, кто бы там ни был.
Вошли двое. В полутемной комнате они казались просто случайными прохожими, одетыми в обычное тусклое тряпье военного времени.
— Здравствуйте, — сипло промолвил один. Другой молчал.
— С кем имею честь? — Джерри поднялся с места. Один из вошедших сделал шаг к столу, одновременно откинув тяжелый брезентовый капюшон. Джерри вскрикнул.
— Кира? Живой?!
— Это я, Андрей. Как видишь, живой.
Двоюродные братья Радужневицкие обнялись.
— Значит, сообщение о твоем расстреле…
— Это был фальшачок, братишка. Мусорские враки.
Кира криво улыбнулся. Блеснула золотая фикса. Одним движением Кирилл Андреевич сбросил в кресло тяжелый от грязи и влаги бесформенный плащ, сшитый из военного брезента. Остался в солдатской гимнастерке, поверх которой надет был добротный, двубортный пиджак. Черные галифе. Хорошие офицерские сапоги. Исчезли: бородка, усы, пенсне. Вообще с первого взгляда было видно, что Кира сильно изменился. Джерри, прищурившись, внимательно рассматривал кузена. По правой щеке у того прошел глубокий, сложный шрам.
— А, это друзья расписались. Чтоб не забывал, — усмехнулся Кирилл Андреевич своей новой, кривой улыбкой.
— Ты сидел? — спросил Джерри.
— Вообще-то я не один. Мы тут с корешем шли мимо. Решили: заглянем на чаек. Сегодня же как-никак четверг. Наши-то соберутся?
— Какие, на хуй, наши?! — не выдержал Джерри. — Ты что, Кира, в тюрьме ума лишился? Сейчас война. Город блокирован. Немцы в сорока километрах. Улицы… Патрули всюду. Как вы прошли-то?
— Значит, не придут, — равнодушно проронил Кирилл Андреевич, садясь, — Жаль. А то я новый перевод подготовил. Из Рильке. Его поздняя вещь. Малоизвестная. Ну, ничего, прочту вам двоим. Двое — уже публика. Кстати, познакомьтесь: Мохоедов Иннокентий Тихонович, вор-рецидивист. Кличка — Уебище. Руки ему не подавай, — быстро добавил он. — Не принято. «Не по понятиям» — как блатные говорят. Вы с ним люди из разных каст. Он вор, а ты, стало быть, фраер.
Вор, сияя широкой, благодушной улыбкой, присел за стол.
— Кто же из нас «неприкасаемый»? — спросил Джерри, разглядывая вора.
— А это как посмотреть, — сказал Кира. — На зоне он — уважаемая персона, а ты был бы никто. Но в других мирах… В других мирах, ты — клад, а он — мышь полевая. Поэтому вы нужны друг другу.
— Не усматриваю особой нужды, — заметил Джерри. — Однако кто же ты сам? К какой касте принадлежишь нынче?
— Я… Это долгий разговор. Впрочем, разговляйтесь. — Кирилл Андреевич вынул из внутреннего кармана пиджака флягу со спиртом.
— Я не пью. Ты же знаешь.
— Сейчас можно, Джерри. Сейчас можно.
Кира устремил на двоюродного брата взгляд своих немного раскосых глаз. На мгновение Джерри увидел перед собой прежнего Киру: проникновенного, интеллигентного, сдержанного. Но уже в следующее мгновение странная сила просочилась из его глаз, сила, напоминающая холодный и простой ветер, дующий в предгорьях. Под влиянием этого ветра Джерри пригубил из фляги. Много лет он не прикасался к спиртному. И вот снова почувствовал вкус «огненной воды». Отпив, передал флягу Мохоедову.
— Ты спрашиваешь, к какой касте принадлежу я, — промолвил Кира после того, как фляга вернулась к нему. — Неужели ты ничего не слышал обо мне за все эти годы?
— Нам сообщили, ты расстрелян как германский агент.
— Ты ничего не слыхал про «сталинградский четверг»?
— О чем ты?
— Нуда, откуда тебе знать… Фраера не знают обо мне. А вот по зонам, по тюрьмам, по бандитским малинам — все слышали о Четверге. О Четверге из Сталинграда. А кто еще прибавляет — Чистый. А другие еще говорят — Кровавый. Что, Уебище, слышал ты о Четверге? — Кира Радужневицкий резко повернулся к Мохоедову.
— Как не слышать. Слыхали о вашем сиятельстве. — Уебище с какой-то странной, подобострастно-издевательской улыбкой вскочил с места и, изогнувшись, как крепостной, поцеловал Кирилла Андреевича в плечо.
Кирилл Андреевич достал оловянный портсигар, оттуда — папиросу. Закурил, никому не предлагая. Помолчал. Затем снова заговорил:
— В тридцать четвертом году, после того, как меня арестовали, следователи измывались надо мной. Били. Били почти каждый день. Морили голодом. Потом стали давать только соленую рыбу, а воды не давали. На столе у следователя стоял графин. Он наливал воду в стакан. Медленно пил большими, щедрыми глотками. Я тоже мог бы выпить стаканчик. Граненый такой. До него было рукой подать. Но для этого я должен был заложить всех вас. Тебя, Дрожжина, Дубишину, Ралдугиных, Гневина, Радного… Всех. Они шили дело о контрреволюционной организации. Название даже придумали: «Сталинградский четверг». Мне предлагали жизнь. Мне предлагали комфортабельную ссылку. Мне предлагали снисходительное прощение от лица великодушной советской власти. Прощение за преступления, которых я не совершал. Прощение в обмен на предательство! Не на того напали, шакалята! Они еще не знают, что такое русский интеллигент! Некоторые уже узнали… Узнали, но никому не расскажут. Не расскажут…