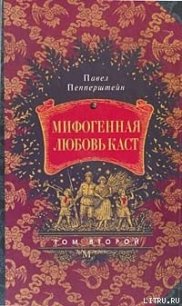Мифогенная любовь каст, том 1 - Пепперштейн Павел Викторович (читать книги без сокращений TXT) 📗
«Я плакал, – подумал он, проводя рукой по своему лицу, мокрому от тумана. – Я долго плакал».
Он пополз куда-то на четвереньках, но быстро увяз в куче влажной, рыхлой земли, разбросанной вокруг небольшой воронки от снаряда. При этом он заметил, что, пока он находился без сознания, его организм каким-то образом освободился от того, что отягощало желудок, и теперь остывший кал медленно сползал по его ногам. С большим усилием он расстегнул брюки и достал кал, оказавшийся довольно плотным и компактным.
«Вот, блядь, таких навозных жуков не бывает…» – подумал он.
Положив кал на землю, парторг заметил, что выделения имеют форму, отдаленно напоминающую зайчика. Зачем-то он несколькими движениями пальцев сделал это сходство еще более очевидным: заострил ушки, вылепил хвостик, имевший вид отдельного комочка. Кончиками пальцев выдавил углубление, которое должно было обозначать глаз. Потом он окружил «зайчика» одинаковыми кучками земли, создав ему как бы некую рамку, которая должна была защищать его.
Трудно сказать, почему Дунаев поступил так. Должно быть, он бессознательно считал себя погибшим (хотя мыслей такого рода у него не возникало) и вел себя соответствующим образом. Действительно, полная тишина и густой туман, поглотивший все звуки и зрительные образы, создавали впечатление спустившейся небесной мякоти, плотно слипшейся с земляным слоем. Но назвать этот мир потусторонним у Дунаева недоставало сил. Организм его перенес чудовищное потрясение; Дунаев, видимо, был контужен.
Немного полежав на земле, он ощутил холод. Он снова попытался встать, но упал на четвереньки и пополз в тумане. Вскоре он увидел прямо перед собой большой белый предмет. Он протянул руку и нащупал педаль рояля. Стоя на коленях, он раскрыл крышку и заиграл. Играть в таком положении было трудно, ему пришлось упереться головой в холодную, покрытую капельками влаги поверхность рояля, но играл он тем не менее хорошо. Не глядя на клавиши, он бегло исполнял знакомые ему мелодии: вальсы, танго, мотивы песенок, популярных в пору его юности.
Дунаев родился в деревне, но семья вскоре переселилась в город. Отец его работал на фабрике, но старшая сестра прислуживала в горничных в одной дворянской семье. Маленький Володя вечно околачивался в большой, хорошо обставленной квартире Рязанцевых. Каждый день девочки Рязанцевых Неля и Оля упражнялись на рояле под руководством учителя музыки Карцева – чудака и балагура, известного своей неловкостью, своей поразительной неуклюжестью, но также и благодушием. Больше всего Карцев любил сушеные фрукты. Поэтому, когда он приходил, оставляя в прихожей свои галоши, кухарка наполняла белое фарфоровое блюдо сморщенными черными грушами, курагой, яблоками и черносливом и отправляла Володю Дунаева с этим блюдом в гостиную.
Заметив как-то, что мальчик проявляет интерес к музыке, демократ Карцев разрешил ему присутствовать на уроках. Так Дунаев научился играть. Кто бы мог подумать во время этих уроков, когда солнце проникало в окна сквозь прозрачные тюлевые занавески и белые платья девочек словно бы светились в полутемной гостиной, а учитель Карцев строил смешные гримасы и запускал руку в вазу с фруктами, кто бы мог предположить тогда, что младшая из сестер, Оля, выйдет замуж за Дунаева, что старшая сестра, Нелли, выйдет замуж за офицера и уедет с ним за границу, что Карцев через несколько лет умрет?
Впрочем, Дунаев никогда не играл особенно хорошо. Иногда на вечеринках, когда собравшиеся молодые люди хотели потанцевать, он с легкостью наигрывал модные в ту пору мелодии. Но сейчас, оставленный на произвол судьбы, переживающий полузабвение, воспринимающий все свои ощущения как сон или же как тусклые и невзрачные проявления собственной смерти, на которых не следовало сосредоточиваться, он играл замечательно, или же ему так только казалось. Звуки были глухие, пресные, они падали в туман и гасли в нем, отчего парторгу было особенно приятно играть – так бывает иногда приятно шептать простые повседневные фразы, уткнувшись лицом в подушку.
Ему казалось, что каловый зайчик, созданный им, ожил и подошел к его ноге, чтобы лучше слышать музыку. Он опустил руку, пытаясь погладить его, но ничего не нашел. Ему пришлось поднять лицо, и тут он увидел, что возле рояля стоят два человека.
Один из них слушал музыку, наклонившись вперед, облокотившись о крышку рояля. Другой стоял, глядя себе под ноги. Оба были в военной форме. Дунаев наконец встал в полный рост, держась руками за рояль, и присмотрелся к нашивкам в летнем ночном свете.
– Вы старшины? – наконец спросил он слегка заплетающимся языком.
Оба незнакомца кивнули.
Дунаев с горечью усмехнулся.
– Что же теперь делать будем, товарищи? Оладьи печь? Ботинки разнашивать?
Старшины молчали.
– Накрыться пиздой и детскую кашу варить? – продолжал Дунаев. – В тылу у немцев спать ебицким сном? Я чуть было не: погиб. Нет, уж лучше идти куда глаза глядят. Или вы предлагаете поступать так, чтобы потом о нас сказали обманутые нами враги: не было лучших рабов? Да? Так, что ли?
Старшины молчали.
– Или, может быть, уже не обуздывать этого бесстыдства? Присутствовать при пытках и казнях преступников? Ходить ночью, в парике и длинном платье, по притонам и публичным домам, принимать живое участие в кощунственных сценических представлениях, в танце и пении? Нет, этот вариант не для меня.
Старшины продолжали молчать.
– Я коммунист. Конечно, я знаю, что положение наше с вами не из легких. Но наш долг – продолжать сражаться и здесь, в тылу. Вы люди военные, вам виднее, как именно следует перемещаться, мне трудно говорить об этом. Знаете ли вы местность?
Один из военных кивнул.
– Немцы должны быть где-то неподалеку, – продолжал говорить Дунаев, борясь с полуобморочным состоянием. – Передовые части врага, должно быть, продвинулись уже на значительное расстояние. Но… – Он запнулся, заметив странное, отсутствующее выражение лица одного из старшин.
Старшины молчали.
– Умирая, знать о том, что ничего особенного не происходит и мир не теряет в твоем лице ни великого артиста ни великого воина? И последние слова чтобы звучали тускло не как золото или сталь, а как эмалированная кастрюля по которой стучит алюминиевой ложкой слепой раб? Да?
Старшины продолжали упорствовать в своем молчании.
– Смотреть на буйство пламени и аплодировать крикам горящих кошек? Нежность прятать про запас, совесть оставлять врагам, честность оставлять на черный день?
Дунаев хотел сильно ударить по клавишам рояля чтобы резким звуком вспугнуть свое помутненное состояние, но его рука с растопыренными пальцами промахнулась и ударила по колену, издав тихий влажный шлепок. Штанина была мокрая. Старшины, почти невидимые в темноте, стали смотреть ему на ноги.
– Даже если война – пустяки или игрушка, – снова заговорил парторг, – это, ебаный колотун, не значит, что можно плюнуть на победу. Иногда дарили Родине морские водоросли или просто сучья да ветки, а она не давилась. А теперь что? По-вашему, это что – простые перетрясы? Это ни хуя не шуточки… это смертельный натиск… – Парторгу стало труднее говорить, он почувствовал резкую боль в голове. – Даже если усталость или обида не позволят… наше дело теперь – партизанить!
Ему наконец удалось выговорить ту фразу, которую он пытался составить в уме и произнести с самого начала.
Старшины молчали.
– Партизаны! Вы понимаете? Партизаны!
Старшины не произносили ни звука.
Дунаев неудачно плюнул на землю (все, что он теперь делал или говорил, было несовершенным, нелепым, ватно-потусторонним). В его сознании возникли слова, вызывающие почему-то невыносимый стыд: «Мой язык погиб».
Мелькнул образ отдельного, мертвого языка («Словно бы у животного», – подумал Дунаев), которого хоронили, как героя.
«Как героя! Как героя!» – шептали губы.
– Вы как знаете, – вдруг устало сказал парторг (и это неожиданно прозвучало почти по-человечески), – а я иду в лес.
И зачем-то прибавил: «Лесное! Лесное!» И повертел перед старшинами растопыренными пальцами, как будто он говорил с идиотами или иностранцами.