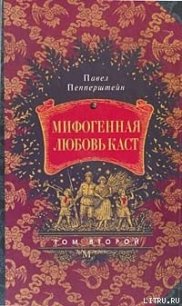Мифогенная любовь каст, том 1 - Пепперштейн Павел Викторович (читать книги без сокращений TXT) 📗
Проходя по переулку, они увидели, как какие-то люди поднимают с земли окоченевший труп и пытаются уложить его на санки. В общем, реальность казалась кошмаром более тягостным, чем даже самые тягостные галлюцинации.
Дунаев подумал с некоторым удивлением, что еще вчера, когда он гулял по городу, все выглядело не столь ужасным. Он также отметил, что ощущает холод, а в голове непроизвольно скользнула мысль, что неплохо было бы сейчас позавтракать горячими вчерашними щами, как, бывало, они завтракали с Поручиком в Избушке. С другой стороны, даже в полумраке можно было разглядеть, что Зина выглядит гораздо лучше, чем вчера, двигается легче и быстрее, а в глазах у нее присутствует живой блеск. Дунаев с удовлетворением отметил, что вчерашнее «кормление» не просто пошло ей на пользу, но почти преобразило ее. Теперь, во всяком случае, в этой девушке уже без труда можно было узнать прежнюю Зину Миронову, которая работала на их заводе.
В парторганизации фабрики их встретили довольно сердечно, особенно ни о чем не расспрашивали. Люди там работали опытные, знающие толк в своем деле, да и имя «Владимир Петрович Дунаев» кое-кому было понаслышке, а то и по бумагам знакомо. Скупой рассказ парторга о родственниках жены, погибших при бомбежке, и о сгоревших там же, при этой же бомбежке, документах, был принят на веру, и после недолгого разговора в парткоме и в отделе кадров он был поставлен на работу в сборочный цех.
Давно парторг не был в цеху! С того самого дня, когда был взорван его завод. Радость от того, что он снова среди своих, среди рабочих, даже заслонила на время тягостное впечатление, произведенное предрассветными ленинградскими улицами. Он работал отменно, быстро, с завидной сноровкой – постепенно к нему возвращалось ощущение «стального», нечеловечески мощного тела. Голод, проснувшийся было наконец в глухие утренние часы, исчез. Ему даже приходилось сдерживать себя, слегка имитируя истощенность, чтобы не слишком выделяться среди остальных.
Во время перерыва он встал в очередь за кружкой морковного чая и кусочком хлеба. Вскоре подошла Зина, одетая в спецовку (она работала в другом цеху), улыбнулась ему.
– Владимир Петрович, я рассказывала немного о вас руководителю здешней партийной организации Зажигину. Он и его зам Цыганков хотели бы познакомиться с вами поближе. Они просили передать, что после конца смены будет заседание партактива. Вы приглашаетесь.
Дунаев кивнул и бодро улыбнулся Зине. С трудом держа горячие жестяные кружки, над которыми поднимался жидкий оранжевый пар, они отошли в сторонку, чтобы поговорить. Зина стала «вводить его в курс» кое-каких фабричных дел и проблем, рассказала о тех или иных людях, с которыми Дунаеву предстояло познакомиться поближе.
Прослушав ее рассказ, Дунаев почувствовал себя подготовленным к знакомству. И когда после конца работы он вошел в комнату, где проходило заседание партактива, ему не нужно было представлять присутствующих. Он без труда определил, что широкоплечий человек с прокуренной жесткой щетиной усов, сидящий во главе длинного, покрытого красным сукном стола, это и есть Зажигин, сидящий справа от него крупный лысоватый мужчина лет сорока – не кто иной, как Цыганков, затем сидят Жуев, Драгомилов, Пузанов, Курачов, Старкой, Малько, Васильев, Маслова, Друзов, Молочаев.
На стене висел огромный портрет Ленина, под ним стоял бюст Сталина. Парторг пожал протянутые ему руки, молча сел на указанный ему стул. Перед ним стояла граненая стеклянная пепельница, совершенно пустая и чистая, без единого окурка. Дунаеву захотелось курить, но из присутствующих никто не закуривал, а парторгу не хотелось делиться своими «Медовыми» – во-первых, каждая папироса была на вес золота, во-вторых, могли возникнуть естественные вопросы типа «откуда такие изъебистые?».
Говорить парторгу тоже не хотелось, поэтому он в основном отмалчивался, глядя под ноги, туда, где истертый красный ковер переходил в паркетный пол. Только один раз в нем проснулась бессмысленная гордыня – когда секретарь Молочаев, человек хрупкого сложения и, видимо, сильно истощенный, уронил на пол папку с документами – бумаги рассыпались и члены партактива долго и неловко собирали их.
Вместо того чтобы ощутить сострадание, Дунаев почувствовал брезгливость. «Тоже мне – активисты… – подумал он с пренебрежением. – Дохлый народ».
Не наклонясь, чтобы поднять какую-то бумажку, подлетевшую к самым его ногам, он встал и подошел к окну. За окном расстилалась изнанка фабричного двора, видна была труба и заснеженные рельсы. Стоя у окна и теребя желтую занавеску, Дунаев стал упиваться нелепыми фантазиями, что он мог бы, наверное, удивить всех людей на фабрике, выйти во двор, закатать рукава, потом вырвать голыми руками из промерзшей земли кусок рельса, завязать его бантиком, а затем закинуть этот бантик на фабричную трубу, чтобы «украсить» ее окончание.
И потекли однообразные дни.
Они были однообразны особенным, напряженным и истощенным способом, как может быть однообразной ежедневная воздушная тревога. Все может надоесть, даже постоянный ужас и смерть на каждом шагу, медленная и мучительная. Здесь, казалось, от смерти не было спасения – она стояла плотной корявой стеной вокруг, она пожирала людей и дома изнутри. И конца этому не было видно. Единственное, что противостояло этому, было какое-то невозможное, невероятное мужество ленинградцев, решивших во что бы то ни стало отстоять свой город. Как будто город вдохновлял этих людей, давал им силу и надежду, не оставлявшую их даже в час смерти. Впрочем, так оно и было. По мере течения дней Дунаев очаровывался этим фантастическим произведением человеческого гения. Глядя на портик Казанского собора, где царила мгла, на Гавань в морозном тумане, на зимние дымы заводов, седыми космами застрявшими в слюдяном небе, на вычурные решетки Летнего сада, Дунаев время от времени спрашивал себя: «Неужели все это существует на самом деле? А может быть, это опять какая-то роскошная прослойка, какой-то город, добраться до которого можно только в волшебном путешествии, с помощью Холеного? Что-то уж слишком похоже на Промежуточные дворцы!»
В самом деле, все видимое живо напоминало галлюциноз, и не только напоминало, но и источало ту кричащую, бешеную силу, которая свойственна обостренному галлюцинозу. Эта «истерическая мощь», похожая на болезненную подростковую эрекцию, вливалась в существо Дунаева, создавая некий противоестественный «ужас красоты», экстатическое переживание на грани пытки, как будто через него пропускали электрический ток. Это ощущение прекрасного напоминало отравление, оно не было связано с наслаждением. Особенно остро парторг ощущал это, когда какая-нибудь деталь внезапно останавливала его на ходу. Как-то раз он брел где-то в районе Малой Голландии, среди каналов, покрытых льдом, среди каменных заборов с колючей проволокой, припортовых складов, лабазов. Проходя мимо пустыря, он вдруг остановился, пораженный ярким изумрудно-травяным пятном на облупленной стене дома. Это было пятно свежего мха, так бросавшееся в глаза, что, даже когда Дунаев зажмурился, пятно осталось светиться в темноте за закрытыми веками, как зеленый свет светофора ночью. Тогда внутри Дунаева как будто что-то «завизжало». Изнутри тела Дунаева поднялся волной совершенно неуместный смех. Это был какой-то чужой, посторонний смех. Он в страхе зажал себе рот, так как мимо проходили люди и он испугался, что его примут за сумасшедшего. Ему в голову пришло, что этот смех принадлежит мху. Ведь «смех» похоже на «мех», а «мех» – на «мох». Смех мха. Словосочетание «смех мха» так расщекотало парторга, что он громко, визгливо захохотал, уже не обращая внимания на прохожих. Впрочем, никто даже не посмотрел на него.
Едва справившись с этим хохотом, он закурил папиросу и лишь тогда немного успокоился. Однако ощущение отравленности возникало в нем все чаще, особенно когда он смотрел на красивые виды, когда нечто поражало его воображение. А такого было вдоволь в этом прекрасном и мрачном городе. Он пристрастился гулять по городу. Это давало ему новые силы, правда неотделимые от бреда, зато позволяющие жить в этом вымирающем огромном музее с заколоченными окнами.