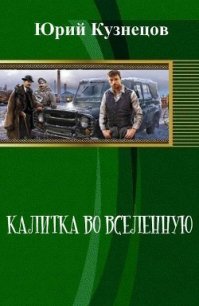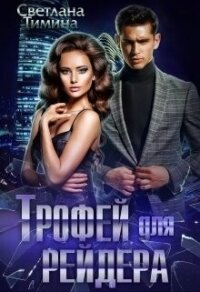Калитка в синеву - Димчевский Николай Владимирович (мир бесплатных книг .TXT, .FB2) 📗
И он уверился, что только так и можно жить, и хочет, чтобы все, чтоб каждый был безжалостно требователен к себе.
Но я иногда смутно чувствую, что чистота его и ясность, выращенные на отречении от многого в жизни, пролегают где-то у границы бедности, скудости. А может, наоборот, это особое, недоступное мне богатство? Победа над своими влечениями не всякому дается. Возможно, в ней и есть сила?
Но всегда ли нужна эта победа? Если случайный и поначалу даже неверный шаг неожиданно ведет в глубины людских отношений, открывает тебе невиданное в человеке, привязывает к нему, то не породит ли отказ от этого шага досаду на жизнь, не скажется ли через годы чувством горечи?..
Не знаю. Не могу ответить на вопросы, которые наплывают и тревожат меня сегодня. Да и некогда на них отвечать.
Только занялся я с «лягушкой», в дом ввалилась компания в мокрых брезентовых плащах и сапогах. Вошли, встали у двери. С них мигом натекла лужа. Неуклюжие, словно бы их не трое, а пятеро. Всю комнату заняли.
— Принимайте гостей, — говорят и толкутся на месте. Видно, что от дома отвыкли, давно не были в жилье, тесно им и непривычно.
Это топографы. После нас они работали на Гороховой шивере у Ковы, а потом ниже. Теперь, когда они содрали с себя все мокрое и разулись, стало видно, что это совсем разные люди. В плащах же казались одинаковыми.
Первый — коротышка. Парню лет двадцать, а он совсем маленький, хоть и плотный, и лицо пухлое, телячье.
Второй — высокий и крепкий, с русой бородой, подстриженной кругом и обрезанной, как щетка. Из-под кепки буйно выбиваются волосы и лезут в глаза.
Третий тоже высокий, но сутулый и лысоватый. У него лицо, точно кирпичная маска, резко отделяется от белого лба и залысин.
Когда Зина подогрела остатки обеда и ребята сели за стол, мы с Михаилом собрали их плащи, сапоги и штаны, потащили в баню сушить.
Вернулись домой, ребята уже пообедали. Кирилл зажигает лампу, Юля протирает закопченное стекло, Митя карты раскидывает.
Но игра не вязалась. Дмитрий Иваныч, тот, что лысоватый, на середине кона отложил карты, достал папироску и откинулся к стене. Точно обо всем сразу позабыл.
Митя заерепенился:
— Чего ты? Надо кончить. Не зря я трудился — колоду тасовал.
Дмитрий Иваныч словно не слышал.
— Кирилл, как сезон-то прошел? — И, не дожидаясь ответа, затянулся папироской. — У нас тяжело-о.
Русый Илья тоже опустил карты.
Розовый Пашка уставился на начальника, ротик кружочком раскрыл.
— Главное, с деньгами хреново, со снабжением… — продолжал Дмитрий Иванович. — К трудностям привыкшие. Но ведь за все лето лишь пару авансов получили, да к концу маленько подбросили. Вот и работай… И бензин получали через пень-колоду. Бесхозяйственность в нашей изыскательской партии первосортная! Расскажи кому-нибудь — не поверят. Разве не анекдот: две бочки бензина привезли нам с Енисея за шестьсот километров на двадцатитонной самоходке! Я как увидел такое внимание, чуть не заплакал. Ведь здесь недалеко нефтесклад. Надо немножко подумать и завести для нашего дальнего участка один катер. Будет он возить бензин не дальше чем за сто километров. Думать, что ль, нечем… Две бочки за шестьсот верст тянут на самоходке!
Дмитрий Иваныч прикурил от лампы погасшую папироску.
— И отношение… как к бедным родственникам. Вот обратно добираемся. Стыдно ведь! Как нищие или воры. Да. Пришлось воровать, что ж поделаешь. У своих воровали. Сначала за христа ради ехали. Где ведро бензина выпросим, где солярки банку. Измучились. Добрались до Кодинской заимки. «Ну, — думаем, — теперь горя мало: здесь свои». Сошли на берег, видим, склад наш. Емкость пустая, бочки тоже пустые. Покрутили, оказалось две полных. Идем к Филиппову. Так и так, мол, давай бензин. Работу кончили, возвращаемся на Енисей. — Сам, — отвечает, — сижу без бензина. Скоро должны подбросить. Обождите денька три.
Вот так расчет — денька три! Они и неделей обернутся. «Нет уж, — думаю, — дорогой, сам жди. Не днями тут пахнет. С чего бы среди пустых бочек прятать полные, если бензин к тебе уже плывет?»
(window.adrunTag = window.adrunTag || []).push({v: 1, el: 'adrun-4-390', c: 4, b: 390})И ведь не домой мы спешим, на Енисей. Нам еще на Осиновский створ добираться, там срочная работа.
Ладно. Легли спать, а утром еще затемно я ребят разбудил и потихоньку на берег. Открыли бочку, набрали канистру, бачки да ведро. С тем и приехали.
А у вас ведерка не найдется для нас? Поделитесь?..
Желто светит лампа. От нее лица кажутся латунными. У Дмитрия Иваныча лоб и залысины стали еще белее. Я смотрю на него и думаю о великом бескорыстии, о необъяснимой любви к трудной жизни таежного бродяги, о неиссякаемой беспечности этого умудренного человека. Он знает: без него ничего не начнешь на створах будущей плотины. И делает свое дело. Он живет впроголодь, он ругает дураков, которым тепло на базе, он выпрашивает бензин у бакенщиков, но упорно делает свое дело.
Он будет за тридевять земель, когда здесь начнут строить плотину и станут сверяться с картой, на которую он нанес главные точки. Без них нельзя ни проект составлять, ни работать. Но ему не достанется ни крупицы славы. И это его нисколько не огорчает. Не нужна ему никакая слава. Скажи ему о ней — отмахнется и всерьез не примет.
Он будет где-нибудь на полярном Енисее или на Лене, где в июле ещё снег на берегах и незаходящее солнце не может развеять низких облаков. Он развернет случайно оказавшуюся газету и увидит снимок великой плотины, о которой знает весь мир. И на этом снимке сосенка, приросшая к крутой скале, смутно видна на изжеванной бумаге. А ведь он первым стоял у этой сосны: там была крохотная площадка для теодолита.
Потом он вырвет фотографию и спрячет в полевую сумку, где лежит карта с точками для будущей стройки.
XI
Все-таки наступил этот час. В ранней осенней тьме неровно просвечивает окошко. Вера топит печь, не зажигая света. Она любит так сидеть в полутьме, в красных бликах пламени.
Я тихо постучал в стекло и вошел в сени. Она уже стояла у раскрытой двери. Она прижалась ко мне.
Смутная тревога, которой я не верил, но которая жила в душе после утренней встречи, сразу растаяла в тепле ее рук, в дыхании ее, в волосах, освещенных желтыми отсветами. Вся она была здесь. Ни одной мыслью, ни одной частичкой не отделялась от меня. Она пристала ко мне словно комок теплого душистого воска. Я мог делать с ней, что хотел. Не мог и не хотел лишь оторвать от себя.
Так мы стояли у порога. В полутьме я видел ее почти закрытые глаза, лицо, неверно очерченное робкими отсветами, ухо в раскаленной паутине волос. Я гладил ее плечи и спину, ловил каждую каплю ее тепла, каждую струйку дыхания. Я пропитывался ею и не мог насытиться, не мог нарадоваться, не мог наглядеться.
Вера оторвалась от меня.
— Иди в дом. Не стой на холоде.
Удивительно уживаются в ней самозабвение и трезвость. Я простоял бы в дверях час и больше и не подумал бы никуда идти, если б она не позвала.
Печурка из железной бочки румянилась красными пятнами. Ребята спали за перегородкой на нарах, укрывшись потрепанным зеленым одеялом. Серьга дышал в затылок Андрею.
— Давай ужинать, — сказала Вера.
И все мне не верилось, что она рядом. Я очень мешал ей. Я держал ее руки в своих, когда она ставила сковороду, я прижимался щекой к ее уху, когда она долбила кашу ложкой, я шел за ней шаг в шаг к полке за солью, в сени за пучком черемши. Я не мог оторваться от нее ни на минуту. И она не отстраняла меня, только тихо смеялась и иногда, отвернувшись от печки, дотрагивалась губами до моих губ.
Мы были одни. Мы были очень нужны друг другу. Мы ничего не помнили и не вспоминали сейчас. Мы радовались. Да, радовались близости.
Почему так недоверчивы люди к этой близости? Чем она мешает тому же Николаю Нилычу? Почему мы должны ее остерегаться? Что-то есть в такой настороженности от надуманных сухих церковных догм, от костяного перста, указующего, что можно и что нельзя. Почему нас нужно учить, как вести себя? Мы сами знаем цену горю и радости. Почему же радость нужно гнать, если она пришла не вовремя? Да и почему не вовремя? Разве для нее есть расписание?