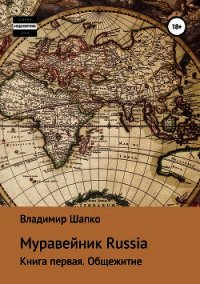Река (СИ) - Шапко Владимир Макарович (читаем книги онлайн бесплатно без регистрации .TXT) 📗
…Перед глазами у Сашки всё плыло. Из красного гуда ресторана приходили большие, не совсем понятные слова. Например, часто – «Гуслей-Гуслея». Кто это? Это Колька, что ли? Двоюродный брат?.. Иногда ворочались такие же громоздкие, неповоротливые предложения… «Шкет, а уже вовсю обжимается с ней… Не то что наш Сашка… Поцелуи уже, всё другое… А ведь пацан еще!.. Гуслей-Гуслея!.. Ха! Ха! Ха!»… Колёска, что ли, всё это сказал? Опять про Кольку, про брата?.. «А ключицы у нее крылят, как аэрофлот на фуражке! Страсть! Хих-хих-хих-хих!» «Кто сказал, что аэрофлот?» Пьяный парень (Сашка) вступил в разговор. Поводил перед всеми указательным пальцем: «Н-нет! Не аэрофлот. Не врать!» Стукнул по столу…
Потом повезлись все по Карла Либкнехта. Сашка вяло загребал невест. Ронял к ним голову, что-то мыча. Сознание висело где-то у груди. В районе живота. Как у коровы ботало. Не потрясешь – не услышишь. С натугой Колёска вдруг потащил песню. Как бы указуя ею всем путь. «Э-ны пабы-ы-ывку ы-еди-и-ит молодой морря-ак!» Девки дружно подхватили. Сашка непримиримо гудел, скашивая рот трубой. Со скамеек не могли смотреть на пропадающего парня старики и старушки. Все – словно грецкие орешки в ожидании удара молотка…
…Винегрет казался Сашке заразой. Бордовой заразой. С вилкой Сашка прицеливался. Как баран к новым воротам. Начинал сдвигать, сдвигать всё. На край тарелки. Словно бы открывать пространство, даль. Но… но винегрет по какому-то волшебству опять сползал на середину. Заполонял собой всё. Вот га-а-ад. «А писима э-мне ид-дут с ма-те-ри-ка. От самой дальней га-авани Сою-у-уза», – пел Колёска напротив. Большеротый, слюнявый. Как тигель. Пальцами, точно палочками, выколачивал на краю стола ритм. Весело приплясывали на столе рюмки с водкой. «А я ши-вы-ряю камушки сы кы-ру-то-го бе-ре-жи-ка холодного пролива Лаперу-у-уза-а!» Сидела рядом с поющим женихом его невеста Семиколенова. И была подперта ладошкой она и как-то по-домашнему пьяна, мечтательна. Иногда успокаивала рюмки, протягивая к ним заголенную пухлую руку. Когда же после песни Колёска взрывался тостом – свою рюмку брала пухленькими пальчиками, как цветочек. Выпивала её, укатывая глаза куда-то под лоб. И, наверное, даже за голову. И опять висела на ладошке все в той же пьяной мечтательности. Без всегдашнего платка волосы ее смахивали на потоптанный серый бурьян. Причесать она его так и не удосужилась. Да и на губах… Вместо выведенного завлекательного сердечка (как у той же Люськи, у Обоянковой), висел какой-то бледный снулый червяк. Сойдет и так. Словом, задумчивость от песни жениха, мечтательность, отрешенность.
Зато Обоянкова в этот вечер за столом была неугомонна. Вела себя как расшалившаяся школьница на переменке в классе. Все время шкодила. Вредила. Особенно соседу. Что называется, по парте. Прилежный первоклаш (Новоселов) и рядом балующаяся девчонка (Обоянкова). Которая все время делает прилежному какие-нибудь каверзы. Ковы. То в бок его пальчонком ткнет. То за ухо дернет. То схватит-бросит что-нибудь у него на парте. После чего прилежный падает на парту и охватывает все свое богатство: что же ты делаешь-то, а? Зараза? А девчонка заливается, а девчонка шкодит!
Потом начала выбегать какая-то тетка. Очень похожая на Семиколенову, только старенькая. Морщинистая. Видимо, недавно она потеряла передние зубы. Резцы. Поэтому – жужжала. Как жужжит с пробитым радиатором машинешка. На подъеме. На горке. Часто переключая скорости. Равнодушную Семиколенову она – тыкала. В затылок. Кулачком. Тыкала! Убегала в соседнюю комнату. И вновь выкатывалась, жужжа еще пуще. И вновь ударяла дочь по затылку…
С большим возмущением Сашка встал. Головой вдевшись в абажур. Ожидал там чего-то. Пока не запахло паленым. Все стали подпрыгивать, освобождать. Оставив абажур мотаться, Сашка пошел из комнаты. На нем повисли. Так и вышел с людьми в прихожую.
Во дворе гуляки и гулены напяливали на себя одежду. Все раздраженные, сердитые. Тетка махалась кулачками. На прощанье пожужжала еще с крыльца. Пропала.
За городом, когда полезли к огонькам поселка кирзавода напрямую, полем, Сашка первым начал проваливаться на льдистом мартовском снегу. (Ну тяжелый же. Байбак. Чего ж тут.) Проваливаться до затаившейся под снегом талой воды. То правая, то левая нога Сашки пролетала до нее. Ноги в старых кедах мгновенно промокли, их обжигало ледяной водой, пока они не стали дубовыми, бесчувственными. Легонькая, в резиновых сапожках, Обоянкова бегала вокруг, хохотала над проваливающимся и каждый раз удивляющимся парнем. А тот, чтобы больше не удивляться, начал сам пробивать ногами снег. До дна, до дна лупил! На манер какого-то дикого первопроходца! В глазах двоило, поэтому мотающиеся огоньки поселка выцеливал, бодал. Вдобавок тащил на горбу хохочущую Обоянкову. Раскачиваясь с нею, старался не потерять направление. Ну ты и стерва, Обоянкова!
Очень грузная Семиколенова тоже начала пролететь ногами до воды. Каждый раз утробно охая. Колёска суетился, кожилился, вытаскивал. (Парам бы разделиться, поменяться друг с дружкой. По телесному, что ли, признаку. Слонов к слонам. Тараканов к тараканам. Природа ведь требует этого. Ее же не обдуришь.) А вытащив Семиколенову и отдышавшись, Колёска сразу загибал ее. Как будто в тяжеленнейшую паузу танго. С высоко задранной ногой. Готовую из рук кавалера рухнуть на снег. «Да не буду я здесь», – разглядывая небо, как сад, говорила Семиколенова. Ж-жестокая! – отступался Колёска, выпрямляя ее.
Дом, куда наконец-то притащились, стоял на отшибе, прямо в степи. Был барачного типа. Попросту говоря – барак. Однако Обоянкова жила в нем отдельно, привилегированно – ввалили к ней с торца барака, с поля. В квартиру, получалось, отдельную. От барачного коридора отгороженную стенкой. Обо всем этом докладывала Семиколенова, когда толклись-раздевались в тесной, забитой одеждой и обувью прихожей. «Это потому, что муж у Люськи партийный». Сашка сразу повернул назад, на выход. То ли из-за того, что «партийный», то ли – что «муж». Не бойся! Не бойся! – схватили, успокоили его, – мужа сейчас нет. Однако свекровь – была. Сидела она возле горящей раскрытой печки, в кухне, глядя на огонь, на своем, по-видимому, постоянном топчане. Марийка или чувашка. На затылке торчала оскудевшая косица с вплетенной в нее грязной тряпичкой. Колёска тут же начал плескать ей в подставленную алюминиевую кружку водку. Вот так теща-свекровь! Стали выскакивать откуда-то и прыскать дети. Застенчивые. Трое. Как неводом, Обоянкова пошла загонять их растопыренными руками в дальнюю комнату.
Продолжили пить и чем-то вяло закусывать. Опять под абажуром. (Казалось, будто тем же самым.) В большой, холодной, видимо, вообще неотапливаемой комнате. Ронял картинки в углу никому не нужный телевизор. Потом Колёска и Семиколенова куда-то исчезли. Сашка смотрел на фотографии на стене. Две сестры там вместе висели. Деревенские чувашки. Одинаковые как камни-голыши. На другом фотопортрете у какого-то хмыря рядом с веселой Обоянковой – шейка, казалось, вот-вот перервется. «Кто это?! – строго повернул рожу Сашка. – Рядом с тобой? Что за хмырь такой?!» – «Муж. В тюрьме работает, – поясняла Люська, мечась с подушками. – Надзирателем. Больной. Язва желудка. Путевку дали. Сейчас в санатории». Сашку удивило не то, что – муж, да еще надзирателем работает, а то, что – больной. «А чего же ты-то тогда? Так себя ведешь?!» Сашка даже встал из-за стола и замотался, опять боднув абажур. Такие дела! Но его со смехом приобняли, его уже повели, подталкивая, к разложенному дивану.