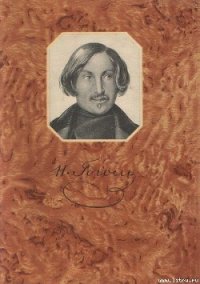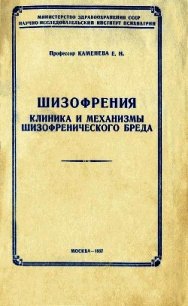Кащенко! Записки не сумасшедшего - Котова Елена Викторовна "elenakotova" (читать книги онлайн полностью .txt) 📗
В палате десять человек. В отделении, рассчитанном на шестьдесят, обитают семьдесят четыре женщины. Шестеро спят на составленных банкетках в коридоре. Я прохожу мимо банкеток, чувствуя плотный запах мочи и хлорки. Надо же, а вчера не чувствовала!
Вчерашний, первый день – или все же позавчерашний? – прошел в какой-то суете, сегодня от нее остался серый мохнатый туман ночного кошмара. Помнила только черные глаза молодого санитара с испитым лицом, глаза висели на этом тумане, как два таракана на паутине, и ощупывали меня с интересом. Глаза ощупывали, а не сам санитар, хотя ему тоже явно хотелось. Смутно помнила процедуру обыска в приемном покое: раздели догола, смотрели во все отверстия… Потом пыталась понять новые правила. Сразу усвоила только, что в ванную, она же туалет, она же курилка, нельзя ходить с пачкой, надо брать с собой сугубо одну сигарету. Иначе тебя атакуют попрошайки. Как на улицах Калькутты. Остальные премудрости – как попросить, чтобы подпустили к запертому холодильнику, когда лежать и когда не лежать на кровати, можно или нельзя попросить добавку чая – эту мудреную смесь науки и шаманства освоить за сутки никому не дано.
Нет, отчетливо запомнился и полдник. Давали запеканку, одинаковые разноцветные халаты подходили к раздаточному окну с протянутой рукой, а буфетчица шлепала крохотный шматок запеканки каждому на ладонь. «Сколько ее, запеканки-то! – кричала она. – Мне что, из-за нее опять тарелки мыть?»
Ночью я все же заснула, несмотря на свет. Конечно, при свете осуществлять «динамическое наблюдение за клинической картиной» – так записано в постановлении следствия о направлении меня на стационарную судебно-психиатрическую экспертизу – несравненно удобнее. Но и таракана на щеке тоже легче обнаружить и на пол стряхнуть. В темноте можно, наверное, ненароком и проглотить. Лежу на кровати, вспоминаю сегодняшнее утро, свое первое прикосновение к окну, которое успело показать мне так много. Это было всего пару часов назад, а кажется, что уже очень давно. Да, давно… С утра я, кажется, пошла в ванный туалет, заставила себя почистить зубы у общей раковины. Лицо умыть не решилась, почему – не знаю, но привкус немецкой зубной пасты во рту сделал жизнь терпимой…
По коридору тенями бродят женщины в сорочках и больничных халатах – кто исступленно глядя прямо перед собой, кто уткнув голову в грудь, пуская слюни и бормоча. Это когда – давно, с утра было или сейчас? Нет, сейчас я лежу на кровати, мне кажется, что я схожу с ума, у меня точно раздвоение личности. Одна часть далеко, она дистанцировалась от меня, она – то, чем я была еще вчера. Вторая старается сжаться, стать неприметной, быть как они все, те, которые вокруг… Не дергаться, когда на тебя кричат: «Котова, сюда, сколько тебя ждать! Где Котова, девочки-и… Котова где», – хотя я рядом. Выходить из палаты, когда орут: «Шестая палата, всем в коридор, потом узнаете зачем». Это потому, что две девчонки, несмотря на окрик «подъем», залежались и не заправили койки. За это нас всех «наказали»: держали в коридоре до завтрака, не давая сесть… Не спрашивать, почему нельзя лежать на покрывале, когда кричат, что нельзя. Не требовать разрешения подойти к холодильнику, чтобы достать свою еду: «Ты что, Котова, не видишь, медперсонал занят». Быть как все… Не нарываться.
Борюсь с ощущением, что стены коридора отплывают, а серо-голубое водянистое предвесеннее небо, отблески солнца на соседнем бело-желтом доме, голые ветки деревьев, роняющие капель, – не реальность, а картина на холсте. Ее поставили где-то далеко-далеко, отделив от моего мира зарешеченным окном. На самом деле этого ничего нет. Реальность – она вот: коридор длиной метров семьдесят, и семьдесят четыре женщины по нему бродят, толстая буфетчица выливает помои в бак, приговаривая: «Таскаешь эти судки, мля… сил нет, а эти стоят и курят…»
Вернулась в палату, сделала йогу, постояла на голове – вроде прошло. Бодренько заправила кровать по команде – иначе точно нарвешься. Пошла снова к своему окну – курить и отвечать на сообщения.
Окно и не заметило моего отсутствия, оно живет своей жизнью в ванной комнате, которая не только курилка и умывальня, но еще и душевая и туалет. На отделение – два унитаза, ничем не отгороженных от остального пространства туалетно-помывочного отсека. Пользоваться ими надо на виду у всех. Два душевых поддона в соседнем отсеке – тоже на виду у всех. Унитазом пользоваться придется, какой у меня выход? А мыться я тут не буду. Дотерплю до дома. Я не буду мыться месяц?! Такая странная мысль могла прийти в голову только в шесть утра. Сейчас почти десять? Трудно сказать, часы у меня отобрали. Знаю точно, что мыться все еще не хочется.
Вспоминаю, как утром, еще в предрассветном полумраке выползла в это универсальное и многофункциональное помещение. Утром ли? Или это было уже вчера? Какая разница… Было это какого-то мартобря, как известно, и этим все сказано. Гораздо интереснее, что на рассвете помывочно-ванный туалет заполнен наркотой. Вообще-то наркоши никуда не пропадают и при дневном свете, но они в нем растворяются. При дневном свете им тоже хочется быть как все. А в предрассветном полумраке они – особая общность, у них осмысленный ритуал в курительно-помывочной. Девчонки открывают оба крана горячей воды, над раковинами поднимается пар и запах хлорки. Этой водой они заваривают в кружках чифир. Этот напиток называется «чай по-кащенски»… В духоте, пропахшей пoтом и унитазами, с пластиковыми кружками, где дымится черная жидкость, они садятся на корточки по-тюремному, приваливаются спинами к кафельным стенам и курят. Курят одну за другой, пока есть сигареты. Докуривают соседский бычок, когда своих не остается… Страдают от ломки, матерятся друг на друга, клянут Кащенко, врачей, курят и пьют сырую, пахнущую хлоркой, обжигающую черную воду…
В шесть утра они уже чифирили, когда в помывочно-ванный «салон» вошла я. Выглядела я, должно быть, дико в кашемировом до пят халате цвета овсянки… А может, и нет, кто же скажет! Девчонки отгоняют попрошаек, те обступают меня, просят оставить чинарик, я оставляю свой беззубой старухе. В палате мне говорят, что так нельзя, – «теперь они, как бездомные собаки, не отстанут». Норма выдачи сигарет, присланных из дома, – десять штук в день. Попрошайки выкуривают свою пайку где-то к обеду, а потом побираются.
«Надо сказать, чтобы передали сигарет попроще, для попрошаек. Раздавать “Мальборо” – глупо, вообще не давать – не получится». Лежу на кровати, думаю о девках, сидящих с чифирем на корточках вдоль стен курилки. Одна из них маленькая, с огромными черными глазищами, хрупкая, как двенадцатилетний ребенок. Тощая, руки покрыты татуировками, уши исколоты пирсингом. Для большего «прикола», видимо, некоторые сережки вырваны, в этих местах мочки ушей превратились в бахрому. Одета в тельняшку со спущенными плечами, разговаривает исключительно на матерном. Сколько лет – непонятно. Может, восемнадцать, а может – двадцать восемь. Лицо цвета печеного яблока. Дальше думать ни о ней, ни о других участницах чифирного чаепития не получается. Не думать же, в самом деле, как они дошли до жизни такой. А о чем думать? Или о ком? Не о судье же Криворучко из Тверского суда…
Судья был гладкий, лысый, с короткой шеей, утонувшей в мантии. Когда выступали мои адвокаты, он казался мне интеллигентным. Господи! Это было только позавчера! Тогда я не знала, что Криворучко – из «списка Магнитского», а теперь знаю. Татьяна Владимировна рассказала.
Читаю постановление судьи: «…доводы защиты о том, что помещение в судебно-психиатрический стационар является ограничением свободы и фактическим заключением под стражу, являются надуманными и несостоятельными, поскольку следствие не ходатайствует об изменении меры пресечения». Думать об этой циничной, лишенной смысла средневековой ереси тоже не имеет смысла. Это российский суд в самом его банальном, типичном проявлении.
Я в Кащенко насильно, вопреки всем разумным доводам. Однако это нельзя считать лишением меня свободы: следствие же не изменило мне меру пресечения. Не в тюрьме же, а только в психушке. Бред… Только два дня назад я была дома, гуляла по улицам, могла покататься на троллейбусе, например. Конечно, это не лишение свободы, судья же ясно написал. И думать об этом нет никакого смысла. Надо осмысливать иное: вокруг столько ошеломляющих впечатлений. Их надо вбирать, когда удается – записывать, проживать… Даже сопереживать.