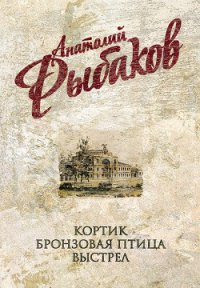Сильнее смерти - Голсуорси Джон (электронные книги без регистрации .TXT) 📗
В своей любовной одержимости он старался, однако, не слишком досаждать ей, хотя никогда не упускал случая дать ей почувствовать, что восхищается ее красотой; его домогательства не шокировали ее только потому, что она постоянно чувствовала себя вне респектабельного круга - она уже пыталась однажды объяснить это отцу. Но во многом другом он все-таки шокировал ее. Она не могла свыкнуться с тем, что он пренебрегал чувствами других людей, с его грубым презрением к людям, которые действовали ему на нервы, к его намекам вполголоса в их адрес, - вот так же он вел себя по отношению к ее отцу, когда проходил тогда с графом Росеком мимо памятника Шиллеру. Подчас она поеживалась от некоторых его замечаний, хотя они бывали так забавны, что она не могла не смеяться. Она видела, что это злит его и что он с еще большим исступлением набрасывается на людей. Однажды она встала из-за стола и ушла. Он побежал за ней, сел на полу у ее ног и, словно огромный кот, стал тереться лбом о ее руки.
- Прости меня, моя Джип, но они же просто скоты. Кто бы мог удержаться? Ну, скажи мне, кто бы мог удержаться, кроме моей Джип?
Ей пришлось простить его. Но однажды, когда он вел себя за обедом особенно вызывающе, она сказала:
- Нет. Я не могу. Это ты - скот.
Он вскочил и мрачный, разъяренный вышел из комнаты. Это был первый случай, когда он дал волю гневу против нее. Джип сидела у камина встревоженная, но прежде всего тем, что ее, в сущности, совсем не мучило то, что она обидела его. Разве этого недостаточно, чтобы почувствовать себя несчастной!
Но когда он не вернулся и к десяти часам, она растерялась. Должно быть, то, что она сказала - ужасно! Правда, в душе она не отказывалась от своего приговора. Впервые она открыто осудила то, что Уинтон считал в Фьорсене "вульгарностью". Будь он англичанином, она никогда не почувствовала бы влечения к человеку, способному так топтать чувства других. Что же тогда привлекло ее в нем? Оригинальность, необузданность, гипнотическая сила страсти, мастерство музыканта? Всего этого у него не отнимешь. Размах, взлет, тоска - все в его игре напоминало ей вот это море за окном - темное, окаймленное полосой прибоя, бьющееся о скалы; или другое море - синее-синее, в ярком свете дня, с кружащими над ним белыми чайками; или море, изборожденное тропками течений, нежное, улыбающееся, тихое, но таящее в своих глубинах непреоборимое беспокойство, готовность воспрянуть из бездны и вырваться снова на простор. Этого она и ждала от него - не его объятий, даже не его поклонения, не остроумия и эксцентричности, не вкрадчивости, напоминающей о коварстве кошки; нет, она жаждала только тех даров его души, что рвались через пальцы ввысь, увлекая за собой ее душу!
Пусть только он войдет - она бросится к нему, обовьет руками его шею, прижмется к нему, растворится в нем! Почему бы и нет? Это ее долг; и разве не радость тоже? Но вдруг ее охватила дрожь. Какой-то инстинкт, слишком глубокий, чтобы разобраться в нем, скрывающийся в тайниках ее души, заставил ее отшатнуться - словно ей стало страшно, панически страшно отдаться течению, отдаться любви; неуловимый инстинкт самосохранения восставал против чего-то рокового, что может увлечь ее куда-то в неведомое; это было неосознанное ощущение человека, стоящего над пропастью: боязнь шагнуть поближе и в то же время - непреодолимое влечение сделать этот шаг.
Она прошла в спальню. Лечь спать, не зная, где он, что делает, что думает, уже казалось невозможным; она принялась медленно расчесывать волосы оправленной в серебро щеткой. Из зеркала на нее глядело бледное лицо, с огромными, потемневшими глазами. В конце концов пришла мысль: "Я ничего не могу поделать! Мне все равно!" Она легла в кровать и выключила свет. Стало неуютно и сиротливо - огонь в камине не горел. Не думая больше ни о чем, она уснула.
Ей приснилось, что она едет в железнодорожном вагоне по морю и сидит между Фьорсеном и отцом; волны подымаются все выше и выше, плещут о стенки вагона и вздыхают. Она проснулась, как обычно, сразу, словно сторожевая собака, и поняла, что это он играет в гостиной. Который же теперь час? Она лежала, прислушиваясь к трепетной, невнятной мелодии. Дважды она вскакивала с постели, но словно сама судьба давала ей знак не двигаться - каждый раз именно в это мгновение усиливался звук скрипки. И каждый раз она думала: "Нет, я не могу! Опять то же самое. Ему безразлично, скольких людей он разбудит своей игрой. Он делает то, что нравится ему, и не думает ни о ком другом". И, заткнув уши, она продолжала лежать.
Когда она наконец отняла руки от ушей, он уже перестал играть. Потом она услышала, как он входит в комнату, и притворилась спящей. Утром он вел себя так, словно забыл о случившемся. Но Джип не забыла. Ей очень хотелось узнать, что он перечувствовал, куда ходил, но гордость не позволила ей спросить об этом.
В первую неделю она писала отцу дважды, а потом только изредка посылала открытку. К чему рассказывать ему о том, как проходит ее жизнь в обществе человека, которого тот не переносит? Неужели отец был прав? Признать это значило бы слишком уязвить свою гордость. Но она начала тосковать по Лондону. Ее новый дом еще не был отделан. Быть может, когда они поселятся там и смогут жить так, как захотят, не боясь помешать другим, жизнь пойдет по-иному? Он снова примется за работу, она будет помогать ему, и все будет хорошо. Новый дом, новый сад, деревья, которые скоро должны зацвести! Она заведет собак и кошек, станет ездить верхом, когда отец будет наезжать в Лондон. Будут приходить тетушка Розамунда, друзья, можно устраивать музыкальные вечера, даже танцы - ведь она танцует превосходно. А его концерты, приносящие радость и торжество: ведь его успех - это и ее успех! А главное, как приятно будет заняться самим домом - все должно там быть элегантным, оригинальным по форме и цвету! И все-таки в глубине души она думала, что загадывать сейчас на будущее - недобрый знак.
Как бы там ни было, но одно ее радовало - ходить на лодке под парусами. Дни были ясными, пригревало мартовское солнце, дул легкий ветерок. Фьорсен великолепно ладил с "морским волком", лодку которого они нанимали, - он вообще лучше всего раскрывался в общении с простыми людьми.