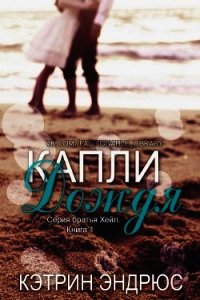Театр отчаяния. Отчаянный театр - Гришковец Евгений (читать книги онлайн бесплатно серию книг .TXT) 📗
А я на лекциях по литературоведению почувствовал первый в жизни глоток, который ждала моя жажда знаний о том, как и каким образом устроено, живёт и работает произведение искусства. Я впервые услышал ответы на терзавшие меня вопросы, и их у меня сразу же возникло ещё больше.
На первом же занятии по теории литературы в качестве наглядного примера нам был предложен анализ стихотворения Лермонтова «Парус», того самого, что я учил наизусть в шестом классе. С этим стихотворением было связано столько школьной тоски и скуки! На этот белеющий на фоне моря парус за школьные годы было навешано столько тяжеловесных штампов! Он был и символом свободы и одиночества, и жажды чего-то прекрасного, и много чего ещё. Этот парус набил оскомину и мозоль. Он раздражал.
И тут вдруг давно заученное стихотворение, затёртый и истрёпанный по поводу и без повода «Парус» удивительным образом оказался невероятно сложно устроенным и тонко сшитым произведением. А потом в процессе разбора его деталей и анализа прямо у нас на глазах, в университетской аудитории, в устах преподавателя короткое стихотворение превратилось сначала в совершенный кристалл безупречной чистоты, а потом в уникальный бриллиант гениальной, сложнейшей огранки. «Парус» заиграл, засверкал всеми гранями, но ещё и поразил своей глубиной и ясностью.
У меня дух захватило от восторга. Я немедленно захотел подвергнуть такому же анализу все мои самые любимые стихотворения, а потом и прозу. Мне захотелось разобрать, препарировать, проанализировать всю известную мне литературу.
На третьем или четвёртом практическом занятии по введению в литературоведение наш очаровательный Дарвин предложил выбрать какие-то нам интересные литературные произведения для совместного анализа. Я тут же вскочил и сказал, что знаю, какой именно текст хочу проанализировать, и что всем он тоже будет интересен.
– Какой же? – улыбнувшись одними глазами, спросил Дарвин. – Весьма любопытно! Вы, надеюсь, понимаете, что произведение не может быть объёмным, мы ограничены во времени и… И ещё оно должно иметь бесспорные художественные достоинства. Лучше обратиться к классике. Это надёжнее всего.
– «Неточка Незванова»! – выдохнул я радостно. – Достоевский! Очень хорошее и небольшое…
У Дарвина поднялась одна бровь, он таинственно улыбнулся, опустил глаза, подумал и снова поднял взгляд на меня.
– Хорошая повесть, – улыбаясь непонятной мне улыбкой, сказал он. – Прекрасная… Но, поверьте мне, она огромная… Курсе на третьем постарайтесь вспомнить своё предложение… Тогда вы поймёте. – Он коротко задумался и улыбнулся ещё таинственнее. – На эту повесть можно потратить всю жизнь. Просто поверьте на слово… Давайте лучше я предложу… Ну-ка кто сможет продолжить?.. Ночевала тучка золотая… Ну?
– На груди утёса великана, – растерянно продолжил я, думая об услышанном.
Я со всем возможным рвением и упоением готовился ко всем занятиям, старался читать всё, что было рекомендовано, сердился на себя, если не успевал хоть что-то прочесть. Я почти прописался в читальном зале университетской библиотеки. После школьной лени и скуки всё во мне вскипело, всё ожило, всё с жадностью впитывало новые знания. Я не сомневался в нужности получаемого на лекциях и из книг. Родители не скрывали удивления, наблюдая за мной, сосредоточенным и увлечённым. А я утомлял их тем, что при любой возможности пытался рассказать им о своих открытиях, поведать, сообщить, объяснить то, что узнал в самом начале своего филологического пути.
О пантомиме я не вспоминал вовсе. Упражнения, тренировки пальцев, растяжки и работу над идеальной осанкой тоже позабыл. Позабыл как что-то необязательное и ненужное.
В новую свою компанию удавалось вырываться реже. Но я всё же находил время для встреч с моими длинноволосыми, бледными приятелями. Я не хотел рвать с элитой. Очарование их мирка и общества ещё не померкло. Но мне определённо стало с ними скучновато.
А ещё я перестал быть с ними во всём согласен. До открытой полемики не доходило, но внутренний спор со многими их утверждениями во мне уже начался. К тому же мне не нравилось, что мои сокурсники из той компании стали подшучивать надо мной по поводу моего рьяного отношения к учёбе. Меня это задевало, но не критично.
Интеллектуальный шарм и флёр тех вечеров, особые темы разговоров и ощущение приобщённости к важным культурным процессам, которые происходили в Москве и Питере, возможность пользоваться свежими их плодами и даже быть их частью крепко держали меня в том обществе.
Никто из тех элитарных моих сокурсников в итоге не отучится и года. Они не захотят и не смогут, как все остальные, в основном девочки из шахтёрских городков и посёлков, готовиться к экзаменам и зачётам, сдавать в срок сессию. Преподаватели быстро поймут их высокомерное отношение к себе и своим предметам. Они расстанутся с этими интеллектуалами без сожаления, если даже не с облегчением.
Я тоже с ними расстанусь, когда пойму, что их надменный взгляд на то, что мне интересно и важно в учебном процессе, на всё почти, что мне дорого в искусстве, меня обижает и оскорбляет.
Уходя из той компании, я громко хлопну дверью и заявлю перед уходом что-то обличающее и что-то насчёт того, что Герман Гессе – напрочь устаревшая муть и заумь, которая интересна только таким, как те, кто над ним трясётся, таким вот заумным отщепенцам, бездельникам и словоблудам. Вслед мне прозвучит дружный, громкий, вполне искренний и тем самым ещё более обжигающе-обидный смех.
Это теперь я понимаю, что мне посчастливилось пообщаться и сдружиться с последними хиппи уходящей эпохи, которая не ощущалась уходящей, а, наоборот, казалась бесконечной. Это были особые хиппи, уникальные сибирские битники, которые сами себе выдумали особый образ жизни, интересы и философию, будучи уверенными, что попросту точно восприняли и усвоили истинные идеи битничества и хиппизма.
В них фантастически преломилось всё: и музыка, и литература, и прочие месседжи их кумиров. Убеждён, что Фрэнк Заппа был бы страшно удивлён теми смыслами, которыми наделяли и освящали его музыкальные шалости кемеровские его апологеты. Уверен, что у Фрэнка не было более преданных поклонников, чем сибирские интеллектуалы.
Я вспоминаю их теперь с теплотой. При всей их абсолютной и сущностной бесплодности, лени и полной неспособности слушать и слышать современность они всё же были яркими. У них была своеобразная романтика и бесспорная стойкость.
Их невозможно было соблазнить или заставить делать карьеру, жить нормальной социальной жизнью и вообще делать хоть что-то, пусть даже за значительные деньги. Они, конечно, не голодали. Но, думаю, и реальный голод не заставил бы их работать. Сдохли бы тихонечко в обнимку с книгой Пруста или Музиля, докуривая последний косяк плохой сибирской марихуаны, но палец о палец не ударили бы ради пропитания. Где-то они теперь?..
Я благодарен им ещё и за то, что моё знакомство с ними, очарование, а потом бегство из их компании случились вовремя. Очень вовремя! Как своевременная, пусть и болезненная прививка. В данном случае прививка от жажды и стремления к элитарности. С тех пор я шарахался от любых закрытых обществ, братств и цехов. Про секты даже не говорю.
После того как я расстался с той компанией, меня уже ничего не отвлекало от учёбы. Я был ею поглощён полностью и целиком. Я стал посещать научные семинары, где мне было трудно что-либо понять, потому что то была территория зрелых литературоведческих интересов старшекурсников и аспирантов.
Я не поднимал головы от книг, конспектов, учебников. Латынь – и та меня радовала своим завораживающим академизмом.
Так бы оно и шло, так бы оно и продолжалось, если бы однажды холодным осенним вечером, которым сыпал первый снег за окном, мама не заглянула ко мне в комнату, где я при свете настольной лампы с сомнамбулическим наслаждением читал «Медею» Еврипида.
– Сынок, – сказала мама, – отвлекись на минутку. На следующей неделе в среду у нас в институте будет набор в студию пантомимы… Объявление видела вчера, но забыла тебе сказать. Это тебе ещё интересно?