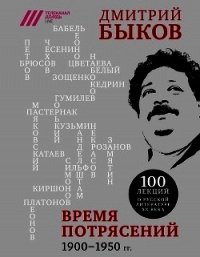Июнь - Быков Дмитрий (книги регистрация онлайн .txt) 📗
А в марте погиб Тузеев, и в тот же день погиб Робштейн, пытавшийся его, уже мертвого, вытащить из-под обстрела. Погиб совершенно ни за что, просто чтобы бросить себя на неведомую чашу, которая вдруг перевесит – и тогда все поймут, что хватит. Тузеев Робштейна терпеть не мог, видел в нем одного из дачников, которых почему-то считал средоточием зла, – тогда как Наум был с Донбасса, успел понюхать жизнь лучше сталинградского рабкора. Миша его любил, но издали. Приближаться к Робштейну он не хотел – тот был слишком шумен, неряшлив, нелеп, и чем-то таким Миша боялся от него заразиться: чутье на обреченных. Но поэт он был настоящий, и Миша успокаивал свою совесть тем, что несколько раз сказал ему: слушай, это удача. И Наум, уже издавший у себя в Донбассе две книжки по-украински, радовался как дитя, нет, как слон. Он радовался всему, без надрыва, не накручиваясь, просто потому, что после нищего беспризорного детства любой кусок пирога был для него произведением искусства, пиром сложности. И то, что он погиб из-за Тузеева, было для Миши отдельным горем. Он хотел написать о Робштейне балладу, но что-то в этом было неприличное. Скорей бы он написал про Валю. Тут нашлась действительно лирическая тема. Потому что Валя была теперь свободна – но более недоступна, чем когда-либо. От живого Тузеева она ушла бы наверняка, а мертвый он стиснул ее намертво.
4
Шестого марта, когда в институте узнали о двух смертях, ее била истерика, слишком громкая, чтобы выглядеть настоящей. Икала, стучалась головой о стену, отпаивали водой и валерьянкой. Девочки дежурили у ее постели в общежитии, чтобы не наложила на себя руки. Уже девятого явилась в институт, траурная, строгая, ни слезинки в глазах, словно желая достойной учебой, деловитостью соответствовать памяти героя. Черное ей шло. Миша мысленно писал ей письмо.
И потом всю весну, все лето ничего не было. Правда, в мае его так замучили сны о ней, и в этих снах она была так расположена, так податлива, что между зарубежкой и творческим семинаром, между мейстерзингерами и Андреевым он подошел и сказал: Валя, я все понимаю. Если вдруг какие-то трудности, я готов… и тут же оборвал себя: так не вовремя, так высокомерно это вышло! Какие трудности в учебе, он что же, предлагал себя в репетиторы? И она посмотрела ледяными глазами, совершенно не так, как во сне, и он отвел взгляд, но тут она вдруг улыбнулась. Ты что, Мишка, сказала она. Мишка! Он никогда не слышал, не чаял услышать от нее ничего подобного. Ты что, краснеешь? Ну да, краснею, ответил он, и это был первый его удачный шаг в отношениях к ней. Всего глупей было бы сказать «нет, что ты» – и запунцоветь окончательно. Да, я краснею, мне неловко. Мне вообще все теперь с тобой неловко. Да, сказала она вдруг по-взрослому, как умела, и проступило на секунду все ее настоящее обаяние, вот уж два месяца как спрятанное. Со мной всем теперь неловко, все сочувствуют и никто не подойдет. А я что ж, я человек. Я в кино иногда хочу. Но мне нельзя. Ты понимаешь? Он кивнул, и так ее было жалко в эту минуту! Безмужняя вдова. Идиот. За эту секунду жалости он себя проклинал теперь. И никакой грубости, вот интересно, никакой простоватости не было в эту секунду в ее лице. Или он весь был под действием мейстерзингеров? Но ему показалось тогда, что ничего нет возвышенней этой бесплотной любви: она – вдова, не познавшая замужества, он – рыцарь, не допущенный даже к самому куртуазному ухаживанью. И не рыцарь даже, а, допустим, конюший. Сцены из рыцарских времен. И как прелестно просветило ее солнце, как она вся порозовела, какая была ослепительная рыжая прядь! Уже совершенный расцвет, поздняя весна. Почему она тогда позволила ему эту близость? Заманивала? Но какой расчет, какая ей выгода от того, что он теперь так растоптан? Этого он не понимал, но почему-то все лето, идиот, считал ее своей. Весь царицынский цикл, все, что сочинено было на даче, все, что рассчитывал послать и так и не осмелился, – все посвящалось ей, он никого другого и не представлял теперь. И Даша, соседка, туманно намекавшая на какие-то июньские грибы колосники, на какой-то шалаш, на то, что у нее все уже было, – оставляла его безучастным, о чем он сильно теперь жалел. Все было глупо, так глупо! А между прочим, стихи были неплохие, особенно одно, раешина-скоморошина. Сам не ожидал от себя. Теперь все это пришлось забыть, он давно порвал царицынскую тетрадь, но стихи, к сожалению, помнил. Не так легко они забывались.
И начался третий курс, и по случаю его начала – чему радовались, интересно? – всех собрала Клара Нечаева, у нее была настоящая трехкомнатная квартира. Отец ее был шишка, но, странное дело, никто не знал его должности. А впрочем, настоящим шишкам так и положено: о них никто ничего не знает, и все им можно. Это была шишка, так скажем, нового поколения. Потому что, когда он был у Веры (вот, может быть, последняя развилка в его жизни, когда все можно было поменять, – конечно, Вера-то настоящая, она человек, и потому у нее так все сложилось), – у Веры он видел совершенно другой стиль. Там отец был действительно из тех, из конницы, из легенд. Можно ли представить, чтобы он слушал Лещенко? И потом болезнь жены, сумасшествие или что-то вроде, а когда она вернулась из лечебницы – словно что-то хрустнуло, и его перевели в Астрахань с понижением. Они уехали, и больше о них ничего не было слышно. Нечаев-старший был совершенно другой, наголо бритый, с толстой складкой на загривке, с огромной, почему-то внушительной бородавкой на губе. Заметный южный выговор, гэканье, – но не мягкое, а такое, с каким изображают удар шашкой: хэк! И всего ужасней было, что он Мишу похвалил: черт дернул Мишу читать именно скоморошину! Хорошо, прям-таки наше, сказал Нечаев. Кларе он приходился отчимом. У ее матери была дивная судьба: она выходила замуж не за людей, а за эпохи. Первый муж был бандит, наводивший ужас на весь Николаев, второй – чекист, расстрелявший бандита, третий – промышленник, переживший чекиста (что-то такое случилось в двадцать девятом, темное, о чем Клара говорила, расширяя глаза и понижая голос). С промышленником случился в тридцать шестом сердечный приступ – вскоре после того, как его зачем-то вызвал как раз Нечаев; ничего страшного, поговорил и отпустил, но на приступ хватило. После этого Нечаев стал заходить, сделался в доме своим человеком, женился, удочерил Клару и заставил взять свою фамилию. Клара родилась от чекиста и до тридцать шестого была Фрумкина, но Нечаев сказал: хватит. Почему Кларина мать, красавица, вышла за этого типа – никто не понимал, но Клара, опять-таки округляя глаза и шепотом, объясняла: «Мы были бе́дны, дон Альвар богат». Зато теперь они были везде прикреплены, а имя промышленника как ни в чем не бывало носил самарский завод, который он некогда возглавлял.
И вот, как сказано, была вечеринка, среди которой Нечаев вдруг уехал – на ночь глядя, но у шишек теперь ночами была самая работа, так что никто не удивился. После его исчезновения стало словно легче дышать – «Сундук вынесли», тихо сказал кто-то, и все засмеялись оглушительно, с облегчением. Мать Клары, тридцатишестилетняя красавица, отнюдь еще не собиравшаяся увядать, посидела с ними и ушла к себе, сославшись на головную боль. У них было три комнаты, невероятно. Тут пошла настоящая вольница. Сначала еще старались не усугублять мигрени, говорили вполголоса, потом распоясались, танцевали, пили кислый вермут, показавшийся Мише исключительно крепким (и до сих пор вкус этого вермута связывался в его памяти со счастьем и вседозволенностью). Выходили курить на лестничную площадку, Миша тоже курил, стреляя папиросы у рослого тихого Утюгова, чей подбородок – на троих рос, ему достался – в самом деле напоминал утюг. Удивительно мягко ложился свет. Потом Клара настояла, чтобы выключили люстру, зажгли свечи. Уже в прихожей кто-то целовался. Миша танцевал с Валей, и она была в его руках все податливей, он позволял себе все больше, не встречая уже почти никакого сопротивления, и тогда в углу комнаты, когда никто, казалось бы, не видел, он отважился поцеловать ее в шею, ближе к уху. От нее пахло духами, названия которых он, конечно, не знал, а спросить стеснялся, не то давно купил бы… чтобы что? Чтобы утешаться или еще сильней ненавидеть? И вот он ее поцеловал, и она почти не отклонялась, только вдруг сильно задышала. И он сказал с легкой грустью: Валя, Валя, как жаль, что все так сложилось. Теперь он будет между нами всегда, а ведь могло бы… Да, сказала она хрипло, могло бы. Но, может, еще будет? – спросил он, уже не выдержав элегического тона, с идиотской подростковой надеждой; но вместо того чтобы его высмеять, она серьезно ответила: может, еще и будет. Потом засмеялась: глупый ты какой! Ты же целоваться не умеешь, Миша! Но целоваться он умел, научился этому в подвале их дома очень рано, в четырнадцать лет, и тут же попробовал ей доказать это. Она вырвалась и посмотрела, как ему казалось, с одобрительным изумлением: надо же! – но быстро опомнилась и рассердилась: ты что это себе вообразил? Ну иди-ка отсюда! Она так и сказала: ну иди-ка! – с интонацией глупо-провинциальной, и тут случилась его ошибка. Он решил, что если с такой интонацией, то, уж конечно, она шутит, и в этом случае нет значит да. Тут уж она его отпихнула по-настоящему, и он, криво улыбаясь, вернулся за стол. Что, облом? – спросил Утюгов. Их никогда не поймешь, ответил Миша снисходительно. Тут начался дождь, зашумел по листьям, застучал по стеклу, и этим дождем словно разрешилось мучительное напряжение этого вечера. Миша окончательно впал в элегическое настроение и думал: мы не можем быть вместе, и это к лучшему. Обладание никогда не ведет к поэзии, зато теперь у меня есть вечный повод. И в этом настроении, ни с кем не простившись, он тихо, мечтательно ушел, и, идя по мокрой улице пешком в свой Потаповский переулок, даже что-то уже сочинял, ласковое и всепрощающее.