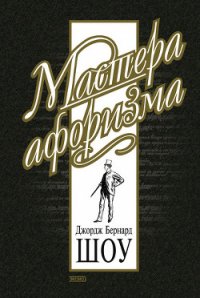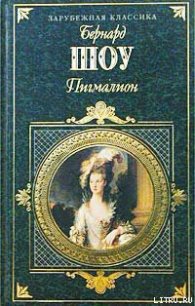Три пьесы для пуритан - Шоу Бернард Джордж (книги онлайн читать бесплатно TXT) 📗
Даже впав в пессимизм, мы можем выбирать между интеллектуальной честностью и обманом. Хогарт рисовал распутника и шлюху, не восславляя их конца. Свифт, принимая наш моральный и религиозный кодекс и исходя из него, устами императора Бробдингнега вынес нам неумолимый приговор и изобразил человека в образе йэху, возмущающего всем своим поведением лошадь, более благородную, чем он. Стриндберг, единственный ныне живущий подлинный продолжатель Шекспира в драме, показывает, что самка йэху, с точки зрения романтического стандарта, куда подлее, чем одураченный и порабощенный ею самец. Я уважаю таких решительных авторов трагикомедий: они последовательны и преданы истине; они прямо ставят перед вами альтернативу - либо признать основательность их выводов (и тогда оставаться в живых - трусость), либо же согласиться, что ваш способ судить о человеческом поведении абсурден. Но я не чувствую никакого уважения к Шекспирам и Теккереям, когда они смешивают все представления в одну кучу и, убив кого-нибудь в финале, затем, словно гробовщик, протягивают вам натертый луком носовой платок, исторгая у вас слезы чувствительной фразой вроде: "И ангелы с песнопением будут сопровождать тебя к вечному покою", "Adsum" ["Я предстаю..." - начало грегорианской молитвы.] или что-нибудь в таком же роде. Эта сентиментальщина, возможно, производит впечатление на трезвенников, напивающихся чаем, но не на меня.
Кроме того, у меня имеется профессиональное возражение против того, чтобы делать сексуальное безумство темой трагедии. Опыт учит, что оно производит впечатление, только когда подается в комическом свете. Мы можем принять миссис Куикли, закладывающую свое блюдо из любви к Фальстафу, но не Антония, из любви к Клеопатре бегущего с поля битвы при Акциуме. Если уж это необходимо, пусть сексуальное безумство будет предметом изображения в реалистическом повествовании, объектом критики в комедии, поводом для лошадиного ржания сквернословов. Но требовать, чтобы мы подставляли душу его разрушительным чарам, поклонялись ему и обожествляли его, и внушать нам, что только оно одно придает ценность нашей жизни, - чистая глупость, доведенная до эротического помешательства: по сравнению с ней тупое пьянство и нечистоплотность Фальстафа высоконравственны и почтенны. Тот, кто думает найти на страницах моей пьесы Клеопатру в виде Цирцеи, а Цезаря - в виде свиньи, пусть лучше отложит в сторону книгу и тем избавит себя от разочарования.
В Цезаре я показываю характер, уже показанный до меня Шекспиром. Но Шекспир, так глубоко понимавший человеческую слабость, никогда не понимал, что такое человеческая сила цезаревского типа. Его Цезарь - это общепризнанная неудача; его Лир - непревзойденный шедевр. Трагедия разочарования и сомнения, отчаянной борьбы за то, чтобы удержаться на зыбкой почве, трагедия, возникшая в результате глубочайших наблюдений над жизнью и тщетных попыток приписать Природе честность и нравственность; трагедия воли, безверия и острого зрения, воли колеблющейся и слишком слабой, чтобы притупить остроту зрения, - из всего этого создается Гамлет или Макбет, всему этому бурно аплодируют литературно образованные джентльмены. Но Юлия Цезаря из этого не создашь. Цезарь был вне возможностей Шекспира и недоступен пониманию эпохи, у истоков которой стоял Шекспир и которая теперь быстро клонится к упадку. Шекспиру ничего не стоило принизить Цезаря - это был просто драматургический прием, с помощью которого он возвысил Брута. И какого Брута! Законченного жирондиста, отраженного в зеркале шекспировского искусства за два столетия до того, как он созрел в действительности, стал ораторствовать и красоваться, пока ему, наконец, не отрубили голову более грубые антонии и октавии нового времени, которые, по крайней мере, понимали, в чем отличие между жизнью и риторикой.
Вероятно, скажут, что единственная цель этих моих замечаний предложить публике Цезаря лучшего, чем шекспировский. Совершенно справедливо, цель их действительно такова. Но здесь разрешите мне дружески предостеречь писак, которые постоянно возмущаются моей критикой Шекспира и кричат, что я богохульствую, посягая на Совершенство и Непогрешимость, которые доныне никем не оспаривались. Моя критика Шекспира, однако, не новее, чем символ веры моего предавшегося Дьяволу пуританина или чем возрожденная мною эксцентриада фарса "Холодна, как лед". Те, кто слишком удивляется моим статьям, обнаруживают весьма ограниченное знание шекспировской критики, которое не включает в себя ни предисловий доктора Джонсона, ни высказываний Наполеона. Я только повторил на языке моего собственного времени и в духе его философии то, что сказали они на языке своей эпохи и в духе ее философии. Не давайте сбить себя с толку шекспироманам, которые еще со времен Шекспира восторгаются его пьесами точно так же, как могли бы восторгаться какой-нибудь особой породой голубей, если бы не умели читать. Подлинные ценители Шекспира, от Бена Джонсона до Фрэнка Хэрриса, всегда держались (так же как и я) в стороне от этого идолопоклонства.
Что же касается рядовых, лишенных критической способности граждан, то они целых три столетия медленно тащились вперед к той вершине, которой Шекспир достиг одним прыжком еще в елизаветинские времена. Сейчас большая их часть как будто добралась до нее, а другие уже где-то невдалеке. В результате пьесы Шекспира начинают наконец показывать в том виде, как он их написал. Бесчисленное количество безобразных фарсов, мелодрам и пышных зрелищ, которые актеры-режиссеры - от Гаррика и Сиббера до наших современников - вырубали из его произведений, как вырубают крестьяне камни из Колизея для своих хижин, мало-помалу исчезают со сцены.
Примечательно, что люди, искажавшие Шекспира и не внимавшие уговорам, что он знал свое дело лучше, чем они, всегда были самыми фанатичными из его поклонников. Покойный Огастин Дейли не останавливался ни перед какой ценой, чтобы пополнить свою коллекцию шекспировских реликвий, но, приспособляя к сцене произведения Шекспира, он исходил из убеждения, что тот был ремесленник, а он, Дейли, - художник. Я слишком хорошо знаю Шекспира, чтобы простить Генри Ирвинга, который так изуродовал "Короля Лира" в своей постановке, что многочисленные критики, никогда не читавшие этой трагедии, не смогли разобраться в истории Глостера. Эти поклонники Барда, очевидно, сочли Форбс-Робертсона сумасшедшим за то, что он вернул на сцену Фортинбраса и играл "Гамлета" столько, сколько позволяло время, и никак не меньше. Немедленный успех его эксперимента вызвал в их умах, кажется, только одно заключение: что публика тоже сошла с ума. Бенсон ставит всю эту пьесу в двух частях, вызывая у вышеупомянутых многочисленных критиков наивное удивление, что Полоний - художественно законченный и интересный характер. Огульное восхваление Шекспира, столь хорошо нам знакомое, возникло в эпоху, когда творчество его было малоизвестно и недоступно пониманию. Возрождение подлинно критического изучения этих произведений совпало с театральным движением, цель которого - ставить подлинно шекспировские спектакли вместо глупых подделок. Но довольно о бардопоклонстве.