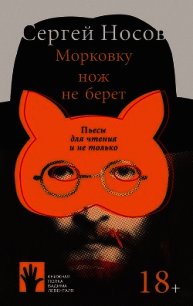Закрытие темы (сборник) - Носов Сергей (прочитать книгу TXT) 📗
– Уф, – испугался Евдокимов.
– Ты чего? – спросила соседка. – Ты ничего. Это я, Софья Антоновна.
Софья Антоновна застёгивала плащ на последнюю пуговицу – торопилась на службу. Она работала в поликлинике – отключала сигнализацию рано утром и открывала входные двери.
– Кстати, – сказала Софья Антоновна, – сегодня Вера, Надежда, Любовь…
«И София», – добавил про себя Евдокимов. Он мрачно поздравил:
– Поздравляю… – И отправился дальше.
Снова лежал на диване. Смотрел на потолок и видел на потолке трещину. Русло пересохшей реки в соляной пустыне. С каждым годом трещина удлинялась на несколько сантиметров. Вот и сегодня она стала длинней, чем вчера; Евдокимов, конечно, не мог различить столь малого приращения, и всё же он знал, что длиннее… «Это моя жизнь, – угрюмо думал Евдокимов, – спроецирована на потолок». Трещина была не очень прямой, но без особых изгибов.
За окном тем временем дождь моросил. Последний день сентября, обещали синоптики, будет хмурым. Евдокимов лежал на диване и вершил над собой суровый суд, спать не хотелось.
Для подводящего итоги ход мысли вполне традиционный. Плохо. Так жить нельзя. Тридцать лет – как корова языком. Половина жизни.
«В моей жизни много случайного, необязательного, непонятно какого. Жизнь могла бы сложиться иначе, будь я собранным и целеустремлённым, но я никогда не был собранным и целеустремлённым, я был другим, хотя и стремился к чему-то, непонятно к чему, а потому жизнь моя сложилась именно так, а не иначе, то есть никак не сложилась». Евдокимов жил-был.
Жил-был Евдокимов. В детстве он мечтал стать клоуном. В юности слыл неплохим рисовальщиком. Выпускал стенгазету в стройбате. Работал электриком в Русском музее. Ездил с геодезистами. Годы не первой молодости Евдокимов отдал Институту культуры. То, чему учили Евдокимова, называлось Культурно-Просветительская Работа. Он был самым старшим в группе. «Да, да, – сказал Евдокимов, – такая история».
«Осенняя скука» имела успех. Он поставил её за полтора месяца. Он сам сыграл роль помещика; на сцене ДК железнодорожников Евдокимов появлялся в широкополом халате, шлёпанцах на босу ногу и атласном ночном колпаке, сшитом для спектакля Максимовой Любой. Он получил «отлично». Председатель экзаменационной комиссии отметил музыкально-шумовое оформление спектакля и точность построения мизансцен. Евдокимова поздравили, Евдокимову пожали руку и в конечном итоге распределили Евдокимова методистом в управление кинофикации, – теперь он может доставать билеты на фестивальные фильмы.
Хорошо бы отправить ей телеграмму:
«ДОРОГАЯ ЛЮБА ПОЗДРАВЛЯЮ ДНЁМ АНГЕЛА ЕВДОКИМОВ».
С некоторых пор он сделался сентиментальным – признак возраста.
Будучи сентиментальным, он, однако, не был влюбчивым человеком. То есть случалось в жизни Евдокимова всякое (мало ли что было в жизни Евдокимова!), но то, что было, не было любовью в самом высоком значении слова, это было другое, совсем другое, потому как любовь, сказал Гегель, то-то и то-то, а что именно, лень вспоминать, но он всё равно читал серьёзные книги.
Он не был принципиальным холостяком – отнюдь! Он никогда не кичился своей независимостью. Напротив: он тосковал по сильному чувству, а ещё более – по обыкновенной привязанности. С высоты прожитых лет было хорошо видно: Евдокимов совершал в жизни ошибки, но ошибка жизни Евдокимова (подумалось вдруг) – не женился на Любе.
Подумав так, Евдокимов поднялся с дивана и заходил по комнате. Удивительная мысль пришла ему в голову; и верно: пришла – будто со стороны, будто кто-то сказал, а не он подумал. Евдокимов, сказали ему, теперь ты видишь, – и он изумился, прозрев. Люба, Любушка. Любовь. Любаша.
Голубые глаза, тонкая шея, улыбка. Улыбка всегда печальная. (Господи, какой ты осёл, Евдокимов!..) В отличие от большинства подруг (его подруг) она была как бы тихоней. Она всегда находилась в тени своих блистательных однокурсниц. И он был с ними, а не с ней, потому что он, Евдокимов, ценил в женщинах артистичность. Он ценил в женщине артистичность и эксцентричность, ироничность и эстетичность, энергичность, динамичность, реалистичность, фотогеничность, в то время как главное в женщине – женственность.
Евдокимов оделся и вышел на улицу. Моросил дождь, тот самый гадкий дождь, когда трудно сказать, дождь это или не дождь. Евдокимов раскрыл зонтик, но, пройдя несколько шагов, снова закрыл; под ногами чавкали тополиные листья.
Около почты стояла бочка с квасом, а на дверях почты висела табличка: «Санитарный день». Евдокимов цокнул языком с досады: мало что слякотный, так ещё санитарный.
– Что, браток, пива хочешь? – спросил продавец.
У него была интеллигентская бородка. Он был один-одинёшенек.
– Так ведь это же квас, а не пиво, – неуверенно произнёс Евдокимов.
– Квас, – подтвердил продавец и налил Евдокимову полную кружку.
С другой стороны, в тихом омуте черти водятся.
Вспоминалось новоселье у старосты группы – дым, чад, как обычно, музыка; она распускает волосы, – такой резкий взмах рукой (её длинные волосы…), мы все танцуем и есть время заметить то, чего раньше не замечал, и удивиться своему замечанию. Она умеет быть разной, как странно! Странно не то, что она умеет, а то, что он в тот вечер не зацепился взглядом достаточно крепко, не положил глаз в известном смысле. В известном смысле у него были другие заботы.
В общем, дружили. Если можно назвать дружбой готовность написать конспект под копирку или сшить ночной колпак для помещика. «Оставь, Люб, всё хорошо». – «Нет, подожди, я пришью кисточку». Невинность их отношений была безотчётна, как страсть, – ни тебе лукавых помыслов, ни двусмысленных фраз, ни сомнений. Он не искал в ней того, что мог найти в других, а может, это судьба берегла их обоих, чтобы большое (вдруг!) увиделось на расстоянии.
Куда бы теперь ни шёл Евдокимов, напившийся квасу, сколько бы ни вчитывался в позавчерашний «Советский спорт», наклеенный на доску «Союз печати», как бы ни ублажал свой голодный желудок в пельменной, всё думал о Любе. И правда думал – серьёзно, без дураков. Люба стала сегодня идефикс Евдокимова. Ему было хорошо думать о Любе, и осознавать, что думать о Любе ему хорошо, и радоваться этому осознаванию, – ибо тому он угадывал имя… Он думал о Любе и о себе. Что не вдохновляло, так это тарелки. Дома ждал тридцатилитровый аквариум, осквернённый тарелками. От одной только мысли о грязной посуде становилось тоскливо. Вдвойне тоскливо и втройне одиноко! И он думал о Любе.
На автовокзале, вопреки ожиданию, народ не толпился. Автобус отходил в час десять. Евдокимов посмотрел на часы: три минуты второго. Он сунулся в кассу:
– Есть билеты? – Был уверен, что нет.
– Есть, есть. Сколько угодно.
Когда Евдокимов опустился в мягкое кресло возле самой кабины водителя, он почувствовал невероятное облегчение, – камень упал с души, автобус тронулся. Рядом сидела женщина, очень грузная пассажирка, она держала на коленях ар буз и медленно поглаживала этот арбуз на коленях, словно домашнюю кошку, которая боится дороги.
– Фрукт или овощ? – спросила женщина.
– Ягода, – ответил Евдокимов не моргнув глазом.
– Правильно, – сказала женщина. – У меня четыре племянника. Первый – Ильюша, значит, он старший, второй, очень хороший мальчик, – Володя, третий (загибала пальцы) – Степан…
Она рассказывала про четырёх племянников: про то, какие они славные, как любят арбузы, как ждут не дождутся тётю… Евдокимов не слушал. Уехали уже далеко: череда картофельных полей тянулась за окном, мелькали деревья. Кто-то что-то вытаскивал из кювета. Евдокимов резко повернул голову, но рассмотреть не успел – промелькнуло. Потом был лес – зелень и охра и более тусклые краски. Завтра октябрь. Осень, октябрь, не так-то всё плохо. Он совершил поступок. Он даже зауважал сам себя, как человека, способного на решительный шаг. Было уютно ехать и уважать самого себя и смотреть вперёд с надеждой («надежда – тра-ля-ля-ля-ля…»), тогда как слякоть за окном, изморось, вон что…