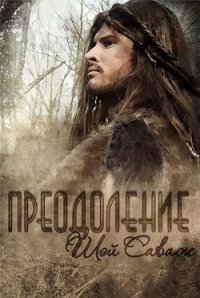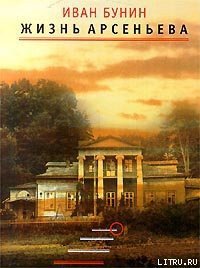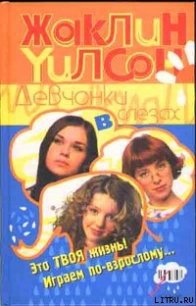Из-за девчонки (сборник) - Туинов Евгений (читать хорошую книгу txt) 📗
У этого дуэта были благодарные слушатели: дядя Жора с умилением смотрел попеременно на жену и на дочку, глаза его наполнялись слезами, а Игорь замирал от счастья и нежности. „Яркое, как мак…“ Он видел это как наяву, он понимал Наталью Витальевну, которая бегала в темноте и хрипло дышала, не произнося имени дочери. Сколько раз Игорь искал свою второгодницу в запутанных лабиринтах сновидений – и точно так же ни разу не окликнул ее по имени. „У вашей девочки, – сказали потом счастливой матери какие-то солидные люди, – врожденное сценическое дарование“.
Еще одну легенду в этом доме любили повторять – легенду о человеке с глазами навыкате. Когда дядя Жора слушал этот рассказ, он вскакивал, начинал бегать по комнате, сжимая волосатые кулачки и бормоча: „О господи, господи…“
„В то лето мы отдыхали на даче у одних хороших знакомых, – буднично, деловито начинала Наталья Витальевна. – Сонечка перешла в шестой класс и, естественно, очень за год устала. Там было много ребятишек ее возраста. Местность красивая изумительно, отцы города, как говорится, вывозили туда на лето своих детей, а у сорокалетних мужчин с положением как раз и бывают двенадцатилетние дети…“
Таков был неизменный зачин, а дальше рассказ раз от разу менялся, пополняясь все новыми подробностями фешенебельного дачного быта. Постепенно скромный дачный поселок, неподалеку, кажется, от Десны, превращался в нечто подобное Карловым Варам – с финскими банями, теплыми бассейнами, казино, дискотеками (о которых в те годы, как понимал Игорь, еще и не слыхивали) и даже со своим минеральным источником.
„Ну, разумеется, Сонька была заводилой, мальчишки ходили за ней косяком. В заброшенном клубе (один из первых вариантов называл это место иначе – „пожарный сарай“) она там кукольный театр организовала, и началось повальное увлечение куклами. Пятнадцатилетние парни и те шили кукольные халатики под Сониным, естественно, руководством. Ну, собрались родители, люди с влиянием и связями, подкинули на воскресенье машину, рабочих, материалы, и за одни только сутки аварийное строение превратилось в прелестный маленький театр. Соня и сценарист, и худрук, и режиссер-постановщик, и главный кукловод – в общем, Фигаро здесь, Фигаро там. Спектакль был грандиозный, в трех частях, по волшебным сказкам Шарля Перро. Начался в девять утра, а кончился перед обедом. Народу собралось множество, зал был битком набит. Малыши с родителями, большие ребята, к кому на воскресенье гости приехали, на машинах, семействами, много было незнакомых. После спектакля овации устроили, хлопали, вызывали, участники выходили кланяться, смотрю – а моей Сони нет. Туда-сюда, ни на сцене, ни в зале, ни за кулисами…“
Игорь прекрасно понимал, что все было не так (если вообще было), но он берёг эту иллюзию и не отрываясь смотрел, как трепетно и живо меняется при каждом слове матери светлое Сонино лицо. То были часы всеобщего согласия в доме Мартышкиных, и Соня лишь снисходительно посматривала на отчима, который, наизусть зная концовку, то вскакивал, то садился и бормотал: „Своими бы руками убил, своими руками!..“
„А я от жары и духоты, – как по сигналу, вступала Соня, – вышла через заднюю дверь и побрела куда глаза глядят. Попала на поле, огромное поле ромашек, ровное как стол, одни большие ромашки, и ничего больше. Смотрю – догоняет меня высокий человек в сером костюме, седой, но лицо загорелое, моложавое. Окликнул по имени, я остановилась, он подошел. Стоим посреди поля, ромашки по колено, а небо облачное, темное, разговариваем. Спросил он меня, где учусь, чем занимаюсь. На „вы“ обращался, тихо и очень вежливо. Рассказал, что в городе Курске организует детскую студию при драматическом театре. Глаза голубые, немного навыкате. Взял меня за локоть, крепко так, и повел. И все говорит, говорит, тихо, но настойчиво, какое будущее меня ожидает. Я больше себе под ноги смотрела. Вышли почти к самой Десне, тут я взглянула на него случайно – и не понравилось мне его лицо. Чем не понравилось – сама не знаю. Испугалась, молчу. Тут, хорошо, проселочная дорога, и „газик“ едет, трясется, пылит. Я замахала рукой, а этот, седой, удивленно спрашивает: „Зачем?“ – „Домой пора, далеко мы зашли“. Покачал он головой, щеку пальцем почесал, засмеялся. Потом отпустил мой локоть. Я выбежала на дорогу, „газик“ остановился, там знакомые наши дачники. „Подвезти?“ Я оборачиваюсь, а серый так рукой неопределенно махнул и зашагал через поле, не оглядываясь.
„Бандит, негодяй! – взволнованно говорил дядя Жора. – Знаем мы эту публику, ловцов человеческих душ“.
„Откуда ж ты эту публику знаешь?“ – улыбаясь, спрашивала его Наталья Витальевна.
„Знаем, знаем!“ – повторял дядя Жора.
А Соня однажды сказала:
„Не испугайся я тогда – вся жизнь, возможно, пошла бы по-другому“.
Дядя Жора взглянул на нее и притих. Все его сердце, Игорь чувствовал, было исполосовано этой историей, как бритвой.
„Другая жизнь“, „жить по-другому“ – эти слова в доме Мартышкиных повторялись особенно часто. Другая, несбывшаяся, несбыточная, жизнь для Сони и ее мамы, пожалуй, была реальнее настоящей и, безусловно, важнее.
Своих театральных наклонностей в Москве Соня проявлять не хотела: «Зачем? Все равно без толку. Тысячи есть – половчее меня». Правда, приехав в Москву, Соня записалась в школьный кружок театра на французском языке. Вела этот кружок учительница с экзотической фамилией Редерер. Но Соня с Редерер не поладила: ее не устраивало произношение учительницы, начались конфликты, а после за хроническую неуспеваемость Соню из кружка вывели. Впрочем, французский язык (один урок в неделю) не делал погоды. По-французски Соня говорила бегло, свободно читала с листа «Юманите диманш». Игорь был англофоном, притом англофоном посредственным, он слушал Сонино чтение и наслаждался ее прелестным, как колокольчик из слоновой кости, «версальским „р“». Нехотя, как непосвященному, Соня объяснила ему, что этот звук возник искусственным путем: виконты и маркизы Версальского двора специальными упражнениями отрабатывали дрожание язычка, чтобы их выговор отличался от выговора простонародья. Эту манеру у Версаля перенял и прусский двор, вот почему берлинцы тоже грассируют. Игорь пытался воспроизвести этот изысканный звук, но Соня недовольно морщилась: «Фу, мерзость! Капустный лист какой-то. Уж лучше не надо». Тайком Игорь начал было учить французский (чтобы у них с Соней был общий язык), но «капустный лист» оказался неодолимым препятствием. Так и осталась в его французском запаснике «шерше ля фам» («ищите женщину») и странное выражение «Пуркуа ву плюэ а нотрё нутрё», что, по словам франкофона Женьки, означало: «Зачем вы плюете нам в душу?»
… Между тем похолодало, с темно-рыжего неба начала сыпаться то ли снежная, то ли водяная пыль. Игорь с досадой отметил, что мысли его ушли чересчур далеко, передернул плечами и, подняв воротник отсыревшего пиджака, пошел домой.
Во всей квартире был уже выключен свет, но родители не спали. Сначала Игорь услышал мамино:
– Явился, слава богу!
А потом голос подал отец.
– Ты что, забыл? – строго спросил он из темноты. – Завтра чуть свет.
– Нет, не забыл, спокойной ночи, – коротко ответил Игорь и, разувшись и сняв пиджак, пошел в Нинкину комнату.
Сестра спала. Игорь поцеловал ее в лоб и тихо сказал: «Прости меня, Нинка». Нина-маленькая вздохнула и повернулась на другой бочок… Давным-давно, еще задолго до Шитанга, Нина-маленькая заявила, что посвятит свою жизнь братьям и будет работать для них, чтобы у них все было самое-самое. К этим девичьим декларациям можно было относиться как угодно, но факт, что дела своих братьев Нина-маленькая принимала очень близко к сердцу. Кровь у нее была хоть и «свекольная», но добрая, теплая кровь.
И только устроившись на своем диване в гостиной, головой к телевизору, Игорь мысленно сказал себе: «А завтра приезжает Костя» – и чуть не подпрыгнул на постели от радости. Дошло наконец до сердца: сейчас рассудок его дремал и ничто не мешало ему просто радоваться.