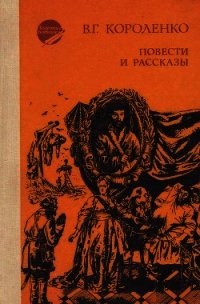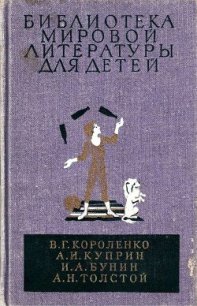Дети подземелья (сборник) - Короленко Владимир Галактионович (книги онлайн читать бесплатно TXT) 📗
– К пароходу.
– Ну, на заре, раньше не будет. Ночевать, видно, и вам.
Он поставил за шалашом телегу и пустил на береговой откос стреноженную лошадь. Через несколько минут за шалашом закурился дым.
Тюлин, очевидно, приучил свою публику к терпению.
Солнце давно спряталось за горами и лесами, над Ветлугой опустились сумерки, синие, теплые, тихие. Наш огонек разгорался, дым подымался прямо кверху. Было как-то даже странно это спокойствие воздуха, наряду с торопливым и буйным движением на реке, которая все продолжала приплескивать. С того берега все неслись песни, и мне казалось, что я различаю фистулу Тюлина в общей разноголосице. На одном из недальних холмов один за другим вспыхивали огни соседней деревеньки. Днем я не замечал ее, – так ее серые избы и темные крыши сливались с общими тонами пейзажа… Теперь она выступила красивой стайкой огоньков на темной верхушке холма, а кое-где четырехугольники крыш вырезывались в синеве неба.
Это – деревня Соловьиха. Мой новый знакомый, от нечего делать, рассказал мне некоторые небезынтересные черты из жизни ее обитателей. Народ в Соловьихе живет предприимчивый и гордый; в окрестностях соловьихинцы слывут "воришканами". Случилось моему новому знакомому остановиться в селе Благовещении, у дьячка. Дело было зимой, к вечеру. Сидят за столом. Вдруг кто-то стук-стук в оконце. Выглянул дьячок: стоит за окном Иван Семенов, сосед-старичок, и на ночлег просится. "Да что ты, чай, тебе до дому всего с версту?" – "С версту, мол, с версту, да мимо Соловьихи идти. Как бы опять к пролуби не свели".
Оказалось, что между этим старичком и соловьихинцами установились совершенно своеобразные отношения. Как только старик разживется деньгами, так непременно напьется на селе, а как напьется, так и начнет хвастать: имею у себя "катеньку" [97] в кармане. Пойдет после этого домой, его соловьихинцы и переймут на реке, да прямо к проруби.
– Хошь в пролубь?
Ну, разумеется, не хочет. Они и не неволят, – отдай только им "катеньку". Он отдает, делать нечего. Они опять:
– Хошь в пролубь?
– Не желаю, братцы.
– Так никому, гляди, не бай. Не скажешь, что ли?
– Не скажу!
– Заклянись!
– Чтоб мне, говорит, на сим месте провалиться, коли скажу единой душе.
И не говорит. Сколько раз этак его ловили, – надоело ему, перестал вечером мимо Соловьихи ходить, особливо когда выпивши, а не сказал никому. "Водили, говорит, к пролуби соловьихинцы", а кто именно – ни за что не скажет.
После этого рассказа я с особым любопытством взглянул на деревеньку "воришканов". Ну, где, думалось мне, кроме Ветлуги, встретите вы такую непосредственность и простоту приемов, и такое благородное доверие к чужому слову, и такую простодушную уверенность в возможности "провалиться на сим месте" в случае нарушения клятвы?… Мой новый знакомый, сам "ветлугай", уверял, что другой этакой деревни нет нигде больше по всей реке. В Марьине промышляли года три назад "красноярками" [98], – ну, это дело другое. А положите в незапертой избе деньги, уходите на сутки, – никто не тронет.
– Как же все-таки соловьихинцы?
– Такой у них, позвольте сказать, обычай…
Ну, где еще, думалось мне опять, найдется такая терпимость к чужим обычаям?… И огоньки Соловьихи мигали мне приветливо и простодушно: "нигде, нигде"…
– Вот и у Тюлина, – сказал я, улыбаясь, – тоже обычай.
– Верно! Подлец мужичок, будь он проклят! А то и надо сказать: дело свое знает. Вот пойдет осень или опять весна: тут он себя покажет… Другому бы ни за что в водополь с перевозом не управиться. Для этого случая больше и держим…
– Мир беседе!
– Милости просим!
К нашему огоньку с берестяными кошелками за спиной, с посошками в руках подошли два странника. Один из них, скинув котомку, внимательно поглядел на меня и сказал:
– Этого мы человека видели.
– Немудрено, – ответил я.
– На Люнде были?
– Был.
– Там и видели. По усердию или обет был даден Владычице?
– По усердию. А вы?
– Мы к празднику ходили, стало быть, к сродникам.
– Что ж, садитесь к огоньку.
– Да нам бы на перевоз – до дому недалече. К утру и дошел бы я.
– Да, на перевоз!.. – вмешался мой знакомый. – Тюлин последнюю ладью уволок. На пароме разве?…
– Где!.. Больно река взыграла.
– Да и шестов длинных нет.
Другой из новоприбывших подошел усталым шагом к берегу, и тотчас же над рекой раздалось громко, протяжно:
– Тю-ю-ли-ин! Лодку дава-а-ай!
Оклик покатился по реке, будто подхваченный быстрым течением. Игривая река, казалось, несет его с собой, перекидывая с одной стороны на другую меж заснувшими во мгле берегами. Отголоски убегали куда-то в вечернюю даль и замирали тихо, задумчиво, даже грустно, – так грустно, что, прислушавшись, странник не решился в другой раз потревожить это отдаленное вечернее эхо.
– Шабаш! – сказал он и, махнув рукой, вернулся к нашему огоньку.
– А парню-то и до дому рукой подать, – сказал первый из моих знакомых, – и всего-то версты четыре, из Песошной! Слыхали про песочинцев? – спросил он с лукавою усмешкой.
– Нет, я в здешних местах не бывал.
– У них, у песочинцев, тоже опять свой нрав. Что ни город, то, говорят люди, норов, что ни деревня, то обычай. Соловьихинцы, – я вот рассказывал, – любят так, чтоб чужое взять, а уж песочинцы – те свое беречь мастера. Этто годов, может, пять назад пошли семеро песочинцев в село Благовещение железо чинить: лемеха там, сошники, серпы и прочее деревенское орудие. Ну, починили, идут назад к реке и сумы с железом в руках несут. А река, как вот и теперь же, приплескивает сильно, играет, да еще ветер по реке ходит, волну раскачал. А лодка-то, известно, верткая. "А что, братцы вы мои, – говорит один, – как лодку у нас ковырнет, ведь железо-то, пожалуй, утопнет. Давай, робяты, кошели к себе привяжем, кабы железо не потопить". – "И то, мол, дело!" Так и сделали. К реке шли – железо в руках несли; в лодку садиться – давай на себя навязывать. Выехали на середину, река лодку-те и начни заливать, лодка и опрокинься. Ну, железо-то крепко к спинам привязано, – не потерялось. Так вместе с железом хозяевы ко дну и пошли, все семеро!.. Что, парень, аль не правду я баю?
Песочинец не возражал, и, при свете огонька, на всех трех лицах моих собеседников лежала одна и та же добродушно-насмешливая улыбка, с особенною ветлужскою складкой, живо напоминавшею мне Тюлина.
– Ну, а вы-то откуда? – спросил я у старика, который видел меня на Люнде.
– А я, господин, сам по себе. Без роду-племени, бездомный человек, солдатская кость.
– А все-таки родом с Ветлуги?
– С нее, матушки. Не одну путину сгонял по ней смолоду. Да и после царской службы вот уж пятнадцатый год околачиваюсь.
Солдатского в этом старике было очень мало: только разве некоторая спокойная уверенность речи да еще старый засаленный картуз с какими-то едва заметными кантами и большим надорванным козырем. Из-под козыря глядели и искрились порой серые глаза, а около усов ютилась чуть заметная улыбка. Голос у старого солдата был очень приятный, грудной, с "перекатцем", выдававшим прежнего лихого песельника, но теперь уже значительно осипшим от старости, от речной сырости, а может, и от "винища". Как бы то ни было, слышать этот голос с юмористическою ноткой и глядеть на ветлужскую усмешку старого солдата было очень приятно, и я вспомнил теперь, что действительно мы встречались с ним на озере. В разгар самого горячего спора на тему: "с татем, с разбойником, кольми паче с еретиком не общайся", – когда обе стороны засыпали друг друга текстами и разными тонкостями начетчицкой диалектики, – этот старичок, с надорванным козырем и искрящимися глазами, вынырнув внезапно в самой середине, испортил всю беседу, рассказав очень просто и без всяких текстов простой житейский случай. Рассказ произвел на большинство сильное отрезвляющее впечатление; начетчики отнеслись к нему с явным пренебрежением. Как бы то ни было, беседа была совершенно испорчена, и толпа разошлась, унося, быть может, не одно проснувшееся сомнение…
97
Кaтенька – сторублевый билет с избражением Екатерины II.
98
«Красноярками» называют фальшивые «бумажки». (Примеч. авт.)