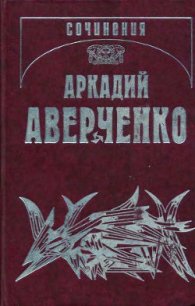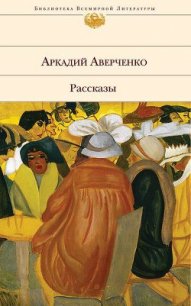Том 6. Отдых на крапиве - Аверченко Аркадий Тимофеевич (библиотека книг TXT) 📗
— Да, насчет прессы вы верно отметили, — благосклонно согласился Куколка. — Чем вообще могу служить?
— Я от редакции «Вечерняя Звезда». Прислан. Интервьюировать. Вас. Разрешите!
Сердце Куколки бешено забилось и сладко, как на качелях, опустилось вниз, чтоб сейчас же еще слаще взлететь в поднебесье.
— Да что вы… Мне, право, так неловко. Зачем же вам беспокоиться… Я бы сам пришел, если нужно.
На лице щетинистого изобразился благоговейный ужас.
— О, что вы! Как же мы осмелились бы беспокоить такого масти… (он чуть не сказал «маститого», но, взглянув на юное простодушное лицо Куколки, спохватился) такого… популярного человека! Итак, разрешите?
— Извольте! — засуетился Куколка. — Да вы не хотите ли кофе выпить?.. Вот и булочки, масло, пирожок есть.
— Я, собственно, уже завтракал, — пробормотал интервьюер «Вечерней Звезды», в то же время обрушиваясь на предложенные продукты с такой яростью, что его слова о съеденном завтраке должны были бы относиться к эпохе семидесятых годов. — Эх, под такой бы пирожок бы да рюмочку бы водки… двуспальную!
На лице Куколки отразилось совершеннейшее отчаяние.
— Ах ты несчастье какое, Боже мой! Водки как раз и нет! И как это я упустил?! Впрочем, есть красное вино. Вы выпьете красного?!
Интервьюер закивал головой и промычал набитым ртом так энергично, что было очевидно — окраска предложенного напитка являлась для него мельчайшей деталью.
Наконец, отвалившись от стола, он допил последнюю каплю вина и сказал в виде оправдания своему хищному поведению:
— Прогулка, знаете, дьявольски развивает аппетит! Где родились?
— В Симбирске.
— Хороший город. Непременно побываю. Так и запишем: «Место рождения — Симбирск». Учились?
— Учился.
— И правильно. Ученье, как говорится, свет. Почему начали писать?
— Тянуло меня к литературе.
— Благороднейшая тяга! Другого, паршивца, к бильярду тянет, ботифончик этакий заложить, а избранные натуры непременно к литературе взор свой обращают или там к музыке какой ни на есть. На какие языки переведены?
— Собственно, еще ни на какие…
— Так и запишем: «Две поэмы вышли в английском переводе в „Меркюр-де-Франс“».
Репортер откинул назад голову и с такой восторженной любовью и гордостью артиста поглядел на четко выписанное им в памятной книжке название иностранного журнала, что у Куколки не хватило духу протестовать.
— Кого из классиков лично знали: Тургенева, Достоевского, Гончарова?
— Помилуйте, меня и на свете тогда не было.
— Прискорбно. Строк тридцать похитила у меня эта ваша молодость. Впрочем, черкнем штришок: «В бытность свою в Симбирске великий Тургенев взял однажды на руки Шелковникова — тогда еще малютку — и пророчески воскликнул: „Вот мой продолжатель!“».
— Но… ведь этого… не было!
— А почем вы знаете? Вдруг было, да вы по младенчеству не обратили внимания. Ваш любимый писатель?
— Пушкин.
— Так и занесем: «Пушкин и Достоевский». Говорят, роман пишете?
— Видите ли… я еще не знаю…
— Так-с. Тайна. Понимаю. Тайна — святое дело. Из какого быта? Я полагаю, насчет оскудения интеллигенции. Э!
— Как вам сказать… — в отчаянии пробормотал Куколка.
— Так и запишем: «В будущем произведении жестоко бичуются уродливости русских Рудиных, оторвавшихся от земли…» Курите?
— Ну, это такая деталь, что стоит ли указывать…
— Нет, мне бы, мне папироску. Ужасно курить хочется! Я в том смысле. Скажите еще что-нибудь копеек на тридцать! Для округления.
Куколка беспомощно взглянул на него. Что ему сказать? У бедняги даже мелькнула мысль предложить интервьюеру эти недостающие тридцать копеек наличными, но тот уже вдохновенно перебил его:
— Спортом занимаетесь? Вы, по-моему, хороший боксер легкого веса. Нет? Ну, все равно займетесь на свободе. «Наш собеседник очень увлекается, кроме литературы, и той отраслью спорта, о которой еще знаменитый Расплюев отзывался: „Просвещенные мореплаватели — и вдруг бокс“. Тот Расплюев, который в изображении артиста Давыдова вырастает в…» Ну, во что он вырастает, я после допишу. Дома.
Он перечитал написанное и вытянул губы трубочкой.
— Гм… суховато немного вышло. Ну, я дома еще иллюминую; красочкой кое-где трону. Ну, я побежал. Еще один фрукт на очереди. Посланник. Балканский вопрос. Рубля на четыре. Счастливо оставаться. Еще папиросочку. Можно? Три? Ну, три! Или пять? Для округления. Так, в Саратове родились? Чудный город. Обязательно побываю. Так сказать, на месте преступления. Чудно! Пляж. Фактории. «Эх ты, Волга», — как говаривал покойный Степан Разин. Эпос, а? До скорейшего.
Этот бедный поденщик пользовался в литературных кругах популярностью за одну свою странную особенность: получив в конце месяца из редакции деньги — рублей пятьдесят, — он, вместо того чтобы освежить свой туалет или расплатиться с пребывавшей в хронической панике квартирной хозяйкой, вместо этого он брал лихача на дутых шинах, мчался в «Аквариум», заказывал великолепный ужин в ложе, выходящей к сцене, пил шампанское, закуривал «гавану» и, купив у продавщицы пук красных роз на деньги, оставшиеся после уплаты по счету, барским жестом швырял цветы какой-нибудь пляшущей на сцене испанке, после чего пешком возвращался домой, опустошенный, но бодрый, бормоча себе под нос:
— По-великокняжески провел вечер! Ай да мы, Пегоносовы! Вот это жизнь! Красота! Ракета!
Манера разговаривать у него была тоже особенная, никому другому не свойственная. Мотылек почему-то называл эту манеру «фонетическим методом».
При встрече с Мотыльком он еще издали кричал:
— Здравствуйте, красавец! Зарабатываете? Красота! А галстучек-то! Мода! Король Эдуард пуговицу на жилетке для моды расстегивал! Англичане! Гибралтарский вопрос! Думаю в Испанию поехать — кастаньеты, танцовщицы, в «Аквариуме» давно были? Осетрина беарнез чудная! Рыбный вопрос! Думаю рыбной ловлей заняться! Море — Черное — Каспийское — Нефтяные вышки — Нобель — керосиновый король — красавец — зарабатывает!!
Эта бесконечная лента могла тянуться полчаса.
Теперь, когда он вышел от Куколки, Куколка минут пять сидел оглушенный, будто его посадили под жерлом пушки и выстрелили.
Но не успел он прийти в себя, как в двери снова постучали.
— Можно?
— Можно.
Вошел седобородый старец, казалось весь сделанный из мягкого серебристого плюша, благостный, импозантный, в сером сюртуке и с плюшевой шляпой в руке.
— Жаждал познакомиться… — мягким серебристым баском проворковал он, окружая руку Куколки двумя пухлыми ладонями, будто пуховой периной. — Вот вы какой!.. Совсем молодой. А мы уже старики-с! Да-с… На исходе. Вы в гору — мы под гору. Вот и зашел посмотреть, чем молодежь дышит.
— С кем имею честь?.. — пробормотал Куколка. Посетитель назвал свою фамилию, и Куколка так и отпрянул в благоговейном ужасе: носитель фамилии был крупный, по петербургскому масштабу, писатель, гремевший своими романами в прошедшем десятилетии.
Что его привело к бедному, в шутку раздутому, «как детский воздушный шар», по выражению Мотылька, Куколке? Захотелось ли ему при взгляде на Куколку вспомнить себя самого — молодым, входящим в моду, «взбирающимся на высокую гору»? Или уж очень он боялся отстать от века? Или захотел старый литературный слон, грешным делом, заручиться признательностью и дружбой будущей знаменитости? Бог его знает. Темны и извилисты пути артистической души на закате!..
— Боже ты мой! — засуетился радостно смущенный, растерянный Куколка. — Я даже не знаю, какое кресло вам предложить! Ведь вы наш учитель! На какое почетное место посадить вас?!
— Э! Все равно в конце концов в калошу посадите, хе-хе. Впрочем, шучу. Вы имеете, кажется, отношение к редакции «Вершины»?
— Да… я там… секретарем.
— Хороший журнал. В моду входит. Я вам, кстати, чтоб не с пустыми руками заходить, вещицу принес. Кажется, удалась. Хотите, берите для журнала!
Куколка бросил косой взгляд на извлеченную из сюртучного кармана трубкообразную «вещицу», и хотя был он восторжен и неопытен, как дитя, но не мог не заметить, что «вещица» уже бывалая. Следы ее путешествий ясно обозначались в виде истертых, потрепанных краев и карандашных ядовито-синих, не поддающихся резинке пометок на обложке: «К возвр.».