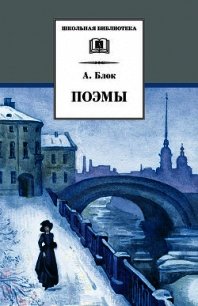Русь моя, жизнь моя… - Блок Александр Александрович (книги онлайн читать бесплатно TXT) 📗
Эта глубина духа заслонена явлениями внешнего мира. Пушкин говорит, что она заслонена от поэта, может быть, более, чем от других людей: «средь детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он» [38].
Первое дело, которое требует от поэта его служение, – бросить «заботы суетного света» для того, чтобы поднять внешние покровы, чтобы открыть глубину. Это требование выводит поэта из ряда «детей ничтожных мира»:
Дикий, суровый, полный смятенья потому, что вскрытие духовной глубины так же трудно, как акт рождения. К морю и в лес потому, что только там можно в одиночестве собрать все силы и приобщиться к «родимому хаосу» [39], к безначальной стихии, катящей звуковые волны.
Таинственное дело совершилось: покров снят, глубина открыта, звук принят в душу. Второе требование Аполлона заключается в том, чтобы поднятый из глубины и чужеродный внешнему миру звук был заключен в прочную и осязательную форму слова; звуки и слова должны образовать единую гармонию. Это – область мастерства. Мастерство требует вдохновения так же, как приобщение к «родимому хаосу»; «вдохновение, – сказал Пушкин, – есть расположение души к живейшему принятию впечатлений и соображению понятий, следственно и объяснению оных» [40]; поэтому никаких точных границ между первым и вторым делом поэта провести нельзя; одно совершенно связано с другим: чем больше поднято покровов, чем напряженнее приобщение к хаосу, чем труднее рождение звука, – тем более ясную форму стремится он принять, тем он протяжней и гармоничней, тем неотступнее преследует он человеческий слух.
Наступает очередь для третьего дела поэта: принятые в душу и приведенные в гармонию звуки надлежит внести в мир. Здесь происходит знаменитое столкновение поэта с чернью.
Вряд ли когда бы то ни было чернью называлось простонародье. Разве только те, кто сам был достоин этой клички, применяли ее к простому народу. Пушкин собирал народные песни, писал простонародным складом; близким существом для него была деревенская няня. Поэтому нужно быть тупым или злым человеком, чтобы думать, что под чернью Пушкин мог разуметь простой народ. Пушкинский словарь выяснит это дело – если русская культура возродится.
Пушкин разумел под именем черни приблизительно то же, что и мы. Он часто присоединял к этому существительному эпитет «светский», давая собирательное имя той родовой придворной знати, у которой не осталось за душой ничего, кроме дворянских званий; но уже на глазах Пушкина место родовой знати быстро занимала бюрократия. Это чиновники и суть – наша чернь; чернь вчерашнего и сегодняшнего дня: не знать и не простонародье; не звери, не комья земли, не обрывки тумана, не осколки планет, не демоны и не ангелы. Без прибавления частицы «не» о них можно сказать только одно: они люди; это – не особенно лестно; люди – дельцы и пошляки, духовная глубина которых безнадежно и прочно заслонена «заботами суетного света» [41].
Чернь требует от поэта служения тому же, чему служит она: служения внешнему миру; она требует от него «пользы», как просто говорит Пушкин; требует, чтобы поэт «сметал сор с улиц», «просвещал сердца собратьев» [42], и пр.
Со своей точки зрения, чернь в своих требованиях права. Во-первых, она никогда не сумеет воспользоваться плодами того несколько большего, чем сметание сора с улиц, дела, которое требуется от поэта. Во-вторых, она инстинктивно чувствует, что это дело, так или иначе, быстро или медленно, ведет к ее ущербу. Испытание сердец гармонией не есть занятие спокойное и обеспечивающее ровное и желательное для черни течение событий внешнего мира.
Сословие черни, как, впрочем, и другие человеческие сословия, прогрессирует весьма медленно. Так, например, несмотря на то, что в течение последних столетий человеческие мозги разбухли в ущерб всем остальным функциям организма, люди догадались выделить из государства один только орган – цензуру, для охраны порядка своего мира, выражающегося в государственных формах. Этим способом они поставили преграду лишь на третьем пути поэта: на пути внесения гармонии в мир; казалось бы, они могли догадаться поставить преграды и на первом, и на втором пути: они могли бы изыскать средства для замутнения самих источников гармонии; что их удерживает – недогадливость, робость или совесть, – неизвестно. А может быть, такие средства уже изыскиваются?
Однако дело поэта, как мы видели, совершенно несоизмеримо с порядком внешнего мира. Задачи поэта, как принято у нас говорить, общекультурные; его дело – историческое. Поэтому поэт имеет право повторить вслед за Пушкиным:
Говоря так, Пушкин закреплял за чернью право устанавливать цензуру, ибо полагал, что число олухов не убавится.
Дело поэта вовсе не в том, чтобы достучаться непременно до всех олухов; скорее, добытая им гармония производит отбор между ними, с целью добыть нечто более интересное, чем среднечеловеческое, из груды человеческого шлака. Этой цели, конечно, рано или поздно, достигнет истинная гармония; никакая цензура в мире не может помешать этому основному делу поэзии.
Не будем сегодня, в день, отданный памяти Пушкина, спорить о том, верно или неверно отделял Пушкин свободу, которую мы называем личной, от свободы, которую мы называем политической. Мы знаем, что он требовал «иной», «тайной» свободы. По-нашему, она «личная»; но для поэта это не только личная свобода:
Это сказано перед смертью. В юности Пушкин говорил о том же:
Эта тайная свобода, эта прихоть – слово, которое потом всех громче говорил Фет («Безумной прихоти певца!» [45]), вовсе не личная только свобода, а гораздо большая: она тесно связана с первыми двумя делами, которых требует от поэта Аполлон. Все перечисленное в стихах Пушкина есть необходимое условие для освобождения гармонии. Позволяя мешать себе в деле испытания гармонией людей, в третьем деле, Пушкин не мог позволить мешать себе в первых двух делах; и эти дела – не личные.
Между тем жизнь Пушкина, склоняясь к закату, все больше наполнялась преградами, которые ставились на его путях. Слабел Пушкин – слабела с ним вместе и культура его поры: единственной культурной эпохи в России прошлого века. Приближались роковые сороковые годы. Над смертным одром Пушкина раздавался младенческий лепет Белинского. Этот лепет казался нам совершенно противоположным, совершенно враждебным вежливому голосу графа Бенкендорфа. Он кажется нам таковым и до сих пор. Было бы слишком больно всем нам, если бы оказалось, что это – не так. И, если это даже не совсем так, будем все-таки думать, что это совсем не так. Пока еще ведь