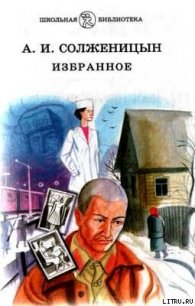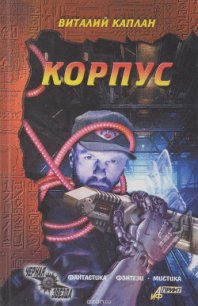Раковый корпус - Солженицын Александр Исаевич (книги полностью бесплатно txt) 📗
Сгорбился Олег, выперли его костлявые плечи, голова свесилась.
– И многие писали…
– Да. А эти брат и сестра сказали: подумаем. Пришли домой, кинули в печку комсомольские билеты и стали собираться в ссылку.
Зашевелился Сибгатов. Держась о кровать, он вставал из тазика.
Санитарка подхватилась взять тазик и вынести.
Олег тоже поднялся и, перед тем как ложиться спать, побрёл неизбежной лестницей вниз.
В нижнем коридоре он проходил мимо той двери, где Дёмка лежал, а вторым был у него послеоперационный, умерший в понедельник, и вместо него после операции положили Шулубина.
Дверь эта закрывалась плотно, но сейчас была приоткрыта, и внутри темно. Из темноты слышался тяжёлый хрип. А сестёр никого не было видно: или при других больных, или спали.
Олег больше открыл дверь и просунулся туда.
Дёмка спал. Это стонуще хрипел Шулубин.
Олег вошёл. Приоткрытая дверь давала немного света из коридора.
– Алексей Филиппыч!..
Хрип прекратился.
– Алексей Филиппыч!.. Вам плохо?..
– А? – вырвалось как хрип же.
– Вам плохо?.. Дать что-нибудь?.. Свет зажечь?
– Кто это? – испуганный выдох в кашель, и новый захват стона, потому что кашлять больно.
– Костоглотов. Олег. – Он был уже рядом, наклонясь, и начинал различать на подушке большую голову Шулубина. – Что вам дать? Сестру позвать?
– Ни-че-го, – выдохнул Шулубин.
Не кашлял больше и не стонал. Олег всё более, всё более различал, даже колечки волос на подушке.
– Весь не умру, – прошептал Шулубин. – Не весь умру.
Значит, бредил.
Костоглотов нашарил горячую руку на одеяле, слегка сдавил её.
– Алексей Филиппыч, будете жить! Держитесь, Алексей Филиппыч!
– Осколочек, а?.. Осколочек?.. – шептал своё больной.
И тут дошло до Олега, что не бредил Шулубин, и даже узнал его, и напоминал о последнем разговоре перед операцией. Тогда он сказал: «А иногда я так ясно чувствую: что во мне – это не всё я. Что-то уж очень есть неистребимое, высокое очень! Какой-то осколочек Мирового Духа. Вы так не чувствуете?»
35
Рано утром, когда ещё все спали, Олег тихо поднялся, застелил кровать как требовалось – с четырьмя заворотами пододеяльника – и, на цыпочках ступая тяжёлыми сапогами, вышел из палаты.
За столом дежурной сестры, положив густоволосую чёрную голову на переплетенные руки поверх раскрытого учебника, спал сидя Тургун.
Старушка-няня нижнего этажа отперла Олегу ванную, и там он переоделся в своё, за два месяца уже какое-то и отчуждённое: старенькие армейские брюки с напуском «галифе», полушерстяную гимнастёрку, шинель. Всё это в лагерях вылежалось у него в каптёрках – и так сохранилось, ещё не изношенное до конца. А зимняя шапка его была гражданская, уже купленная в Уш-Тереке, и мала ему очень, сдавливала. День ожидался тёплый, Олег решил шапку совсем не надевать, уж очень обращала его в чучело. И ремнём опоясал он не шинель, а гимнастёрку под шинелью, так что для улицы вид у него стал какого-то вольноотпущенника или солдата, сбежавшего с гауптвахты. Шапка же пошла в вещмешок – старый, с сальными пятнами, с прожогом от костра, с залатанной дырой от осколка, этот фронтовой вещмешок тётка принесла Олегу в передаче в тюрьму – он так попросил, чтобы в лагерь ничего хорошего не брать.
Но даже и такая одежда после больничной придавала осанку, бодрость и будто здоровье.
Костоглотов спешил скорее выйти, чтобы что-нибудь не задержало. Нянечка отложила брусок, задвинутый в ручку наружной двери, и выпустила его.
Он выступил на крылечко – и остановился. Он вдохнул – это был молодой воздух, ещё ничем не всколыхнутый, не замутнённый! Он взглянул – это был молодой зеленеющий мир! Он поднял голову выше – небо развёртывалось розовым от вставшего где-то солнца. Он поднял голову ещё выше – веретёна перистых облаков кропотливой, многовековой выделки были вытянуты черезо всё небо – лишь на несколько минут, пока расплывутся, лишь для немногих, запрокинувших головы, может быть – для одного Олега Костоглотова во всём городе.
А через вырезку, кружева, пёрышки, пену этих облаков – плыла ещё хорошо видная, сверкающая, фигурная ладья ущерблённого месяца.
Это было утро творения! Мир сотворялся снова для одного того, чтобы вернуться Олегу: иди! живи!
И только зеркальная чистая луна была – не молодая, не та, что светит влюблённым.
И, лицом разойдясь от счастья, улыбаясь никому – небу и деревьям, в той ранневесенней, раннеутренней радости, которая вливается и в стариков, и в больных, Олег пошёл по знакомым аллеям, никого не встречая, кроме старого подметальщика.
Он обернулся на раковый корпус. Полузакрытый длинными мётлами пирамидальных тополей, корпус высился в светло-сером кирпиче, штучка к штучке, нисколько не постарев за свои семьдесят лет.
Олег шёл – и прощался с деревьями медицинского городка. На клёнах уже висели кисти-серёжки. И первый уже цвет был – у алычи, цвет белый, но из-за листьев алыча казалась бело-зелёной.
А вот урюка здесь не было ни одного. А он уже, сказали, цветёт. Его хорошо смотреть в Старом городе.
В первое утро творения – кто ж способен поступать благорассудно? Все планы ломая, придумал Олег непутёвое: сейчас же, по раннему утру, ехать в Старый город смотреть цветущий урюк.
Он прошёл запретные ворота и увидел полупустую площадь с трамвайным кругом, откуда, промоченный январским дождём, понурый и безнадёжный, он входил в эти ворота умирать.
Этот выход из больничных ворот – чем он был не выход из тюремных?
В январе, когда Олег добивался больницы, визжащие, подскакивающие и перенабитые людьми трамваи замотали его. А сейчас, у свободного окна, даже дребезжание трамвая было ему приятно. Ехать в трамвае – был вид жизни, вид свободы.
Трамвай тянул по мосту через речку. Там, внизу, наклонились слабоногие ивы, и плети их, свисшие к жёлто-коричневой быстрой воде, уже были доверчиво зелены.
Озеленились и деревья вдоль тротуаров, но лишь настолько, чтобы не скрыть собою домов – одноэтажных, прочно каменных, неспешливо построенных неспешливыми людьми. Олег посматривал с завистью: и живут же какие-то счастливчики в этих домах! Шли удивительные кварталы: широченные тротуары, широченные бульвары. Ну да какой город не понравится, если смотреть его розовым ранним утром!
Постепенно кварталы сменялись: не стало бульваров, обе стороны улицы сблизились, замелькали дома торопливые, не гонкие за красотой и прочностью, эти уж строились, наверно, перед войной. И здесь Олег прочёл название улицы, которое показалось ему знакомым.
Вот откуда знакомым: на этой улице жила Зоя!
Он достал блокнотик шершавой бумаги, нашёл номер дома. Стал опять смотреть в окно и на замедлении трамвая увидел сам дом: разнооконный, двухэтажный, с постоянно распахнутыми или навсегда выломанными воротами, а во дворе ещё флигельки.
Вот, где-то здесь. Можно сойти.
Он совсем не бездомен в этом городе. Он зван сюда, зван девушкой!
И продолжал сидеть, почти с удовольствием принимая на себя толчки и громыхание. Трамвай был всё так же неполон. Против Олега сел старый узбек в очках, не простой, древнеучёного вида. А получив от кондукторши билет, свернул его в трубочку и заткнул в ухо. Так и ехал, а из уха торчал скруток розовой бумаги. И от этой незамысловатости при въезде в Старый город Олегу стало ещё веселей и проще.
Улицы ещё сузились, затеснились маленькие домишки, сбитые плечо к плечу, потом и окна у них исчезли, потянулись высокие глинобитные глухие дувалы, а если выше их выставлялись дома, то только спинами глухими, гладкими, обмазанными глиной. В дувалах мелькали калитки или туннелики – низкие, согнувшись войти. С подножки трамвая до тротуара остался один прыжок, а тротуары стали узкие, в шаг один. И улица падала под трамваем.
Вот, наверно, и был тот Старый город, куда ехал Олег. Только никаких деревьев не росло на голых улицах, не то что цветущего урюка.