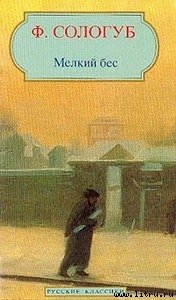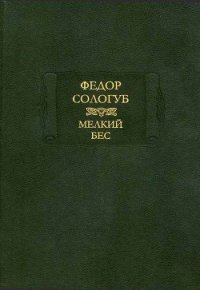Том 2. Мелкий бес - Сологуб Федор Кузьмич "Тетерников" (читать полную версию книги TXT) 📗
Но театральное зрелище — необходимое переходное состояние, и в наше время театр, к сожалению, еще не может быть чем-нибудь иным, как только зрелищем, и бывает часто зрелищем праздным. Только зрелищем, если это — не интимный театр, который создать надо, но говорить о котором, — да как о нем говорить? Ведь это же — соблазн для непосвященного… Разве только намеками и образами.
Зрелищем по преимуществу и хочет быть современный театр. В нем все устроено только для зрелища. Для зрелища — профессиональные актеры, рампа и занавес, хитро раскрашенные декорации, стремящиеся дать иллюзию действительности, умные ухищрения бытового театра и мудрые выдумки театра условного.
Однако если уж наметился в нашем сознании путь, по которому должно идти развитие театра для того, чтобы театр отвечал своему высокому назначению, то задача театрального деятеля, — драматического автора, режиссера и актера, — в том и состоит, чтобы, возводя театральное зрелище ко всем тем совершенствам, которые только достижимы для зрелища, приблизить его к соборному действию, к мистерии и к литургии.
Мне кажется, что первое препятствие, которое должно быть преодолено на этом пути, это — играющий актер. Играющий актер слишком навлекает на себя внимание зрителя и этим заслоняет и драму, и автора. Чем талантливее актер, тем тирания его несноснее для автора и вреднее для трагедии. Низложить эту обольстительную, но все же вредную тиранию можно двумя способами: или перенести центр театрального представления к зрителю, в партер, или перенести его к автору, за кулисы.
Первая мысль, которая могла бы явиться вслед за признанием театра поприщем соборного действа, была бы, по-видимому, та, что надо уничтожить рампу, снять, может быть, занавес и сделать зрителя участником или даже и творцом представления. Вместо плоских декораций оставить четыре изукрашенные стены или внешний простор улицы, площади, поля. Обратить зрелище в маскарад, который и есть сочетание игры и зрелища. Но тогда зачем же было бы и собираться? Только для того, чтобы «соборовались народы», как поется в одной современной песенке? Занятие, конечно, неплохое, но куда же оно ведет?
Правда, к игре и зрелищу в маскараде примешиваются элементы тайны. Намеки на нее, секреты. Но это еще не таинство. Подобно тому, как самые жуткие страхи приходят в полдень, когда в притине ворожит злой Дракон, прячась за фиолетовыми щитами, так и самая глубокая тайна предстает тогда только, когда Личины сняты.
Все меридианы сходятся в одном полюсе (или в двух, если хотите, — но по закону тождества полярных противоположностей всегда достаточно бывает говорить только об одном полюсе), — все земные пути неизменно приводят в один вечный Рим, — «все и во всем — только Я, и нет Иного, и не было, и не будет», — всякое единение людей имеет значение только постольку, поскольку оно приводит человека ко Мне, — от суетно-обольщающего разъединения к неложному единству. Пафос мистерии тем и питается, что случайное множество преображается таинственно в необходимое единство. Он напоминает, что каждое отдельное существование на земле является только средством для Меня, — средством исчерпывать в бесконечности здешних переживаний неисчислимое множество Моих, — и только Моих, — возможностей, совокупность которых создает законы, но сама движется свободою.
А потому действующий и волящий в трагедии только один, что и прибавляет к единствам действия, места и времени также и единство волевого устремления в драме. (Может быть, переходы в мыслях здесь покажутся кому-нибудь довольно неожиданными, — но я не аргументирую, по неумению делать это, а только излагаю одну мою мысль. «Философствую, как поэт».)
Действующий и волящий в трагедии должен быть всегда только один, и не в том смысле, что он ведет хоровое действие, а в том, что он является выразителем неизбежного, не трагическим героем, а его роком.
Современный театр представляет собою печальное зрелище раздробленной воли и потому разъединенного действия. «Разные бывают люди, — думает простодушный драматург, — всяк молодец на свой образец». Ходит в разные места, замечает обстановку, быт и нравы, наблюдает разных людей и очень похоже все это изображает. Козьмодемьянский и Налимов с Вакселем узнают себя и свои галстуки и очень радуются, если автор, — по приятельству, — им польстил, или сердятся, если автор дал понять, что их наружности и их поступки ему не нравятся. Радуется режиссер, что он имеет довольно материала для занятной постановки пьесы. Радуется и актер тому, что может хорошо и интересно загримироваться, и передразнивает наружность и ухватки живописца X, поэта Y, инженера А, адвоката В… Публика в восторге, — узнает своих знакомых и незнакомых и чувствует себя в несомненном авантаже: какие бы общераспространенные грешки ни вытаскивались на сцену, все-таки каждый зритель, кроме малого числа выведенных, ясно видит, что изображен не он, а кто-то другой.
И ничего этого не надо. Никакого нет быта, и никаких нет нравов, — только вечная разыгрывается мистерия. Никаких нет фабул и интриг, и все завязки давно завязаны, и все развязки давно предсказаны, — и только вечная совершается литургия. Что же все слова и диалоги? — один вечный ведется диалог, и вопрошающий отвечает сам и жаждет ответа. И какие же темы? — только Любовь, только Смерть.
Нет разных людей, — есть только один человек, один только Я во всей вселенной, волящий, действующий, страдающий, горящий на неугасимом огне и от неистовства ужасной и безобразной жизни спасающийся в прохладных и отрадных объятиях вечной утешительницы — Смерти.
Многие надеваю на себя по воле Моей Личины, но всегда и во всем остаюсь самим собою, — как некий Шаляпин во всех своих ролях все тот же. И под страшною маскою трагического героя, и под смешным обличием вышучиваемого в комедии шута, и в пестром балахоне из разноцветных тряпок, облекающем ломающееся на потеху райка тело балаганного клоуна, — под всеми этими закрытиями зритель должен открыть Меня. Как задача с одним неизвестным, предстает перед ним театральное зрелище.
Если зритель пришел в театр, как приходит в мир простодушный зевака для того, «чтоб видеть солнце», то я, поэт, создаю драму для того, чтобы пересоздать мир по новому Моему замыслу. Как в большом мире господствует одна Моя воля, так и в малом круге театрального зрелища должна господствовать только одна воля, — воля поэта.
Драма — так же произведение одного замысла, как и вселенная — произведение одной творческой мысли. Роком трагедии, случаем комедии является только автор. Не его ли во всем державная воля? Как он захочет, так все и будет. Он может по своему произволу соединить любящих или горестно разлучить их, возвысить героя или низвергнуть его в мрачную бездну отчаяния и погибели. Он может увенчать красоту, молодость, верность, смелость, безумное дерзновение, самоотверженность, — но ничто не помешает ему возвеличить уродство и разврат и выше всех апостолов поставить предателя Иуду.
Но актер тщеславен. Автора он заслонил своим случайным истолкованием, неожиданностью и разрозненностью своих бытовых и психологических наблюдений, и самую драму он превратил в собрание ролей для разных амплуа. Потом пришел режиссер и похитил ремарку. Потом рок драматического действа, глухой голос повелевающей Мойры запрятан волею директора театра в тесную суфлерскую будку. И когда было мало репетиций, то все на сцене смотрят в одну точку, откуда доносится слышный первым рядам зрителей и досадный для них голос. И нещадно перевирают слова поэта.
Но разве я могу хотеть, чтобы из узкого подземелья доносился мой голос? чтобы по капризу режиссера придуманные мною на сцене окна обращались в ненужные для меня колонны? чтобы мое слово в ремарках воплощалось только в раскрашенную декорацию?
Нет, мое слово должно звучать открыто и громко. Поэта прежде, чем актера, должен слышать посетитель театрального зрелища.