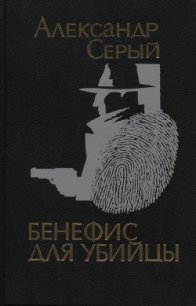Серый мужик (Народная жизнь в рассказах забытых русских писателей XIX века) - Вдовин Алексей "Редактор" (мир бесплатных книг TXT) 📗
На площадке перед часовней, в праздничные дни, любит собираться народ; старики садятся на ступени часовни, а ребятишки возятся среди улицы. Площадка служила сборным местом для васютинцев еще более потому, что тут же, наискось против часовни, находились почтовая станция и при ней контора для приема и выдачи писем.
Старый, низенький, посеревший дом очень неказист на вид, и только стоящий у крыльца полосатый верстовой столб, слегка наклонившийся, указывает на то, что это — не простая крестьянская изба, а «почтовая васютинская станция». Такая надпись значится черными буквами на белой вывеске над входом, но зимний снег и осенние дожди смыли наполовину буквы, и теперь их можно скорее угадывать, нежели читать… Зеленовато-желтым мхом опушаются края ветхой станционной крыши. Некоторые стекла в окнах расцвечаются всеми радужными оттенками. Крыльцо осело, опустилось, и колонны, поддерживающие крылечный навес, сильно покосились: не нужно было Голиафа для того, чтобы повалить их и разрушить все станционное крыльцо. От помоста, выложенного некогда перед станционным домом, уцелели лишь воспоминания да несколько полусгнивших жердей. У крыльца же, по другую его сторону, стоит фонарный столб, выкрашенный в зеленую краску, — нововведение позднейшего времени. Тут же рядом со станцией находится большой навес; под ним стоят почтовые тарантасы оглоблями вверх, сани всяких сортов, валяются дуги и кое-какая сбруя, стоят лагунки с дегтем и там и сям разбросаны охапки сена и соломы. По ночам куры спят на тарантасах, вместо нашестей; сюда же порой заходят овцы и телята попользоваться сеном или спасаясь от непогоды. Близ навеса — колодезь и при нем колода для пойла лошадей.
Васютинцы любят по вечерам усаживаться у станционного крыльца на лавочку и гуторить о своих деревенских делах. Здесь же от прибывающих ямщиков узнаются всякие новости и затем разносятся по околотку.
С детства знаком я с этим станционным домиком, — и словно теперь вижу его перед собой. Узкий коридор делил его на две части: дверь направо — ничем не обитая — вела в избу, в помещение смотрителя; другая дверь налево — обитая войлоком и клеенкой — вела собственно на «станцию», в комнаты для проезжающих. От маленькой передней была отгорожена часть под контору, или «конторку», как называли ее ямщики.
Эта каморка глядела сумрачно, потому что ее единственное окно выходило под навес. У окна стоял стол, покрытый черною клеенкой и уставленный письменными принадлежностями самого скромного вида. Линейка, закапанная чернилами, три гусиные пера, перочинный ножик и огрызок карандаша лежали на суконке перед чернильницей и песочницей. На столе всегда в величайшем порядке содержались книги для записи отпускаемых лошадей, а справа, под клеенкой, внимательный наблюдатель мог легко ощупать рукой знаменитую «жалобную книгу». На страницы этой ужасной книги проезжающие обыкновенно изливали свою ярость и негодование на станционные беспорядки… На стене, над письменным столом, висел засиженный мухами «Вечный календарь», а неподалеку от него помещались счеты. Перед столом стоял стул с плетеным сиденьем, довольно порванным и опустившимся. За стулом находился большой темный сундук, окованный железом. На дне этого сундука хранилось казенное станционное имущество: несколько дестей писчей бумаги, станционные книги и тетрадь для всяких записей, пачка штемпельных конвертов различных форматов, склянки с чернилами, палочки сургуча, печать, кусочки воска, веревки, клубок серых ниток, обрывки холста и т. д. Тут же хранились и письма, еще не взятые из конторы. Все это лежало в порядке, аккуратно разложенное по своим местам. Сундук запирался большим висячим замком… В «конторке» всегда припахивало сургучом, кожаными переплетами книг, серою бумагою; отдавало сыростью…
Для проезжающих предназначались две комнаты: одна — прямо из передней — довольно большая, в два окна, а другая, поменьше, в одно окно и с длинным жестким диваном, обитым черной клеенкой. Обе эти комнаты содержались в чистоте и опрятности. Посередине большой комнаты проходил половик — нечто вроде самодельного ковра. У стены стоял диван, а перед ним круглый стол, накрытый зеленой клеенкой. Над диваном висел портрет царя. В простенке между двух окон помещалось зеркало, — «зеркало с сюрпризом», как называли его проезжающие за то, что лица их в этом зеркале казались крупнее и полнее, чем были в действительности. Под зеркалом стоял другой стол, также накрытый клеенкой, а на нем обыкновенно помещались графин с водой, стакан, и на маленьком подносе лежали щипцы. В другом простенке красовалась старинная гравюра, изображавшая вид Кирилло-Белозерского монастыря. Задняя стена была увешана почтовыми расписаниями, извлечениями из почтовых правил и различными циркулярами, подписанными «директором почтового департамента». Окна в этой комнате были всегда чисты, а крашеный пол блестел и лоснился.
Проезжающих встречал здесь серый кот с чрезвычайно умной, серьезной и задумчивой физиономией. Он или терся, ласкаясь, у ног проезжающих, самым доверчивым и дружелюбным образом выгибая спину и поднимая хвост, или же сидел, прикорнув на подоконнике и поджав под себя все четыре лапы, и тихо мурлыкал свою бесконечную песенку. Путники, рассерженные чем-нибудь в дороге, в ответ на ласки, жестоко пинали бедного кота, потому что были сильнее его и чувствовали себя вправе поступать жестоко, а если бывали в духе — кормили серку кусочками белого хлеба и гладили его по мягкой, пушистой спине.
Осенью, когда бывал особенно большой разгон лошадей, проезжающим нередко приходилось подолгу сидеть на станции. Скучая, смотрели они в окна на грязную деревенскую улицу и на проходивших баб и мужиков, месивших ногами жидкую грязь. И ходили они от окна к окну, проклиная дороги, проклиная станцию и смотрителя, не дававшего им лошадей; громко позевывая, читали циркуляры, почтовые объявления и с горя приказывали подавать самовар. Весело и бойко кипящий самовар разгонял немного их хандру, и тусклые лица их мало-помалу прояснялись, а злая, ироническая улыбка смягчалась, — может быть, при воспоминании о другом чайном столе, более привлекательном и более уютном, чем этот круглый станционный стол со своей зеленой клеенкой… Слышно было, как ямщики шумели и бранились, смазывая тарантасы; наконец начинал позванивать колокольчик, — лошадей подавали к крыльцу, и путники, забрав свои пожитки и не взглянув на комнату, давшую им временный приют от непогоды, спешили садиться в тарантас и катили далее. За ними являлись другие, третьи… Станционный домик всех принимал гостеприимно и радушно, несмотря на свою казенную обстановку. А они, проезжие — эти неблагодарные люди, — только бранились и ворчали…
Был у нас почтовым смотрителем Иван Петрович Прокофьев, человек смиренный, тихий, воды не замутивший ни разу на своем веку. Его звали у нас на деревне просто «Петровичем» или «чиновником», — ради его форменного сюртука с медными пуговицами. Это был, поистине сказать, несчастный человек. У него было такое злополучное лицо, что из ста человек, посмотревших на него, наверное девяносто с полною уверенностью сказали бы про него, что он — пьяница. У проезжающих даже составилось о васютинском смотрителе такое мнение, что он «пьет без просыпа», что он «вечно пьян как стелька». А между тем в действительности Прокофьев пил очень умеренно, да и то лишь в праздники, в почтенной компании.
Проезжающих вводило в заблуждение его лицо — бледное, как бы испитое, его тусклые, покрасневшие глаза, его красно-сизый нос, напоминавший собой грушу, его волосы какого-то неопределенного, желтовато-рыжего цвета, лезшие ему прямо на лоб и на глаза, его торчащие усы и часто небритый подбородок, покрытый словно щетиной. Вообще все его невзрачное лицо казалось каким-то выцветшим, полинявшим, — и человек, незнакомый с Петровичем, при взгляде на него невольно искал на его лице синяков, царапин, фонарей и тому подобных примет, обыкновенно украшающих собой лица пьяниц. Его старое, поношенное платье производило на зрителя такое же невыгодное впечатление, как и его лицо. Форменный сюртук, вытертый донельзя, позеленевший от старости, побелевший по швам и лишенный двух или трех медных пуговиц, потертые, короткие штаны, не доходившие до пят, и скрипучие, неуклюжие сапоги не выставляли в лучшем свете фигуры Петровича, не придавали ей привлекательности.