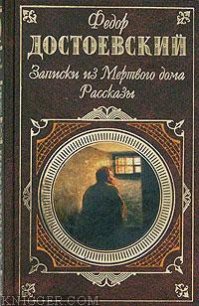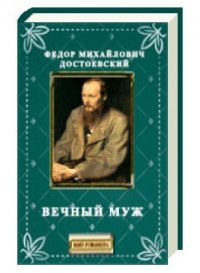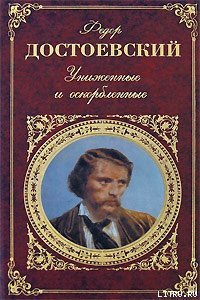Подросток - Достоевский Федор Михайлович (книги без регистрации txt) 📗
— И Версилова можно, — поддакивал Ламберт.
— Должно, а не можно! — вскричал я, — необходимо! Для него-то все и делается! — объяснил я, прихлебывая из стакана глоток за глотком. (Мы пили все трое, и, кажется, я один выпил всю бутылку шампанского, а они только делали вид.) — Мы будем сидеть с Версиловым в другой комнате (Ламберт, надо достать другую комнату!) — и, когда вдруг она согласится на все — и на выкуп деньгами, и на другой выкуп, потому что они все — подлые, тогда мы с Версиловым выйдем и уличим ее в том, какая она подлая, а Версилов, увидав, какая она мерзкая, разом вылечится, а ее выгонит пинками. Но тут надо еще Бьоринга, чтобы и тот посмотрел на нее! — прибавил я в исступлении.
— Нет, Бьоринга не надо, — заметил было Ламберт.
— Надо, надо! — завопил я опять, — ты ничего не понимаешь, Ламберт, потому что ты глуп! Напротив, пусть пойдет скандал в высшем свете — этим мы отмстим и высшему свету и ей, и пусть она будет наказана! Ламберт, она даст тебе вексель… Мне денег не надо — я на деньги наплюю, а ты нагнешься и подберешь их к себе в карман с моими плевками, но зато я ее сокрушу!
— Да, да, — все поддакивал Ламберт, — это ты — так… — Он все переглядывался с Альфонсинкой.
— Ламберт! Она страшно благоговеет перед Версиловым; я сейчас убедился, — лепетал я ему.
— Это хорошо, что ты все подсмотрел: я никогда не предполагал, что ты — такой шпион и что в тебе столько ума! — он сказал это, чтобы ко мне подольститься.
— Врешь, француз, я — не шпион, но во мне много ума! А знаешь, Ламберт, она ведь его любит! — продолжал я, стараясь из всех сил высказаться. — Но она за него не выйдет, потому что Бьоринг — гвардеец, а Версилов — всего только великодушный человек и друг человечества, по-ихнему, лицо комическое и ничего больше! О, она понимает эту страсть и наслаждается ею, кокетничает, завлекает, но не выйдет! Это — женщина, это — змея! Всякая женщина — змея, и всякая змея — женщина! Его надо излечить; с него надо сорвать пелену: пусть увидит, какова она, и излечится. Я его приведу к тебе, Ламберт!
— Так и надо, — все подтверждал Ламберт, подливая мне каждую минуту.
Главное, он так и трепетал, чтобы чем-нибудь не рассердить меня, чтобы не противоречить мне и чтобы я больше пил. Это было так грубо и очевидно, что даже я тогда не мог не заметить. Но я и сам ни за что уже не мог уйти; я все пил и говорил, и мне страшно хотелось окончательно высказаться. Когда Ламберт пошел за другою бутылкой, Альфонсинка сыграла на гитаре какой-то испанский мотив; я чуть не расплакался.
— Ламберт, знаешь ли ты все! — восклицал я в глубоком чувстве. — Этого человека надо непременно спасти, потому что кругом его… колдовство. Если бы она вышла за него, он бы наутро, после первой ночи, прогнал бы ее пинками… потому что это бывает. Потому что этакая насильственная, дикая любовь действует как припадок, как мертвая петля, как болезнь, и — чуть достиг удовлетворения — тотчас же упадает пелена и является противоположное чувство: отвращение и ненависть, желание истребить, раздавить. Знаешь ты историю Ависаги, Ламберт, читал ее?
— Нет, не помню; роман? — пробормотал Ламберт.
— О, ты ничего не знаешь, Ламберт! Ты страшно, страшно необразован… но я плюю. Все равно. О, он любит маму; он целовал ее портрет; он прогонит ту на другое утро, а сам придет к маме; но уже будет поздно, а потому надо спасти теперь…
Под конец я стал горько плакать, но все продолжал говорить и ужасно много выпил. Характернейшая черта состояла в том, что Ламберт, во весь вечер, ни разу не спросил про «документ», то есть: где же, дескать, он? То есть чтобы я его показал, выложил на стол. Чего бы, кажется, натуральнее спросить про это, уговариваясь действовать? Еще черта: мы только говорили, что надо это сделать, что мы «это» непременно сделаем, но о том, где это будет, как и когда — об этом мы не сказали тоже ни слова! Он только мне поддакивал да переглядывался с Альфонсинкой — больше ничего! Конечно, я тогда ничего не мог сообразить, но я все-таки это запомнил.
Кончил я тем, что заснул у него на диване, не раздеваясь. Проспал я очень долго и проснулся очень поздно. Вспоминаю, что, пробудясь, я некоторое время лежал на диване как ошеломленный, стараясь сообразить и припомнить и притворясь, что все еще сплю. Но в комнате Ламберта уже не оказалось: он ушел. Был уже десятый час; трещала затопленная печка, точь-в-точь как тогда, когда я, после той ночи, очутился в первый раз у Ламберта. Но за ширмами сторожила меня Альфонсинка: я это тотчас заметил, потому что она раза два выглянула и приглядывалась, но я каждый раз закрывал глаза и делал вид, что все еще сплю. Я делал так оттого, что был придавлен и что мне надо было осмыслить мое положение. Я с ужасом чувствовал всю нелепость и всю мерзость моей ночной исповеди Ламберту, моего уговора с ним, моей ошибки, что я прибежал к нему! Но, слава богу, документ все еще оставался при мне, все так же зашитый в моем боковом кармане; я ощупал его рукой — там! Значит, стоило только сейчас вскочить и убежать, а стыдиться потом Ламберта нечего было: Ламберт того не стоил.
Но стыдился я сам и себя самого! Я сам был судьею себе, и — о боже, что было в душе моей! Но не стану описывать этого адского, нестерпимого чувства и этого сознания грязи и мерзости. Но все же я должен признаться, потому что, кажется, пришло тому время. В записках моих это должно быть отмечено. Итак, пусть же знают, что не для того я хотел ее опозорить и собирался быть свидетелем того, как она даст выкуп Ламберту (о, низость!), — не для того, чтобы спасти безумного Версилова и возвратить его маме, а для того… что, может быть, сам был влюблен в нее, влюблен и ревновал! К кому ревновал: к Бьорингу, к Версилову? Ко всем тем, на которых она на бале будет смотреть и с которыми будет говорить, тогда как я буду стоять в углу, стыдясь самого себя?.. О, безобразие!
Одним словом, я не знаю, к кому я ее ревновал; но я чувствовал только и убедился в вчерашний вечер, как дважды два, что она для меня пропала, что эта женщина меня оттолкнет и осмеет за фальшь и за нелепость! Она — правдивая и честная, а я — я шпион и с документами!
Все это я таил с тех самых пор в моем сердце, а теперь пришло время и — я подвожу итог. Но опять-таки и в последний раз: я, может быть, на целую половину или даже на семьдесят пять процентов налгал на себя! В ту ночь я ненавидел ее, как исступленный, а потом как разбушевавшийся пьяный. Я сказал уже, что это был хаос чувств и ощущений, в котором я сам ничего разобрать не мог. Но, все равно, их надо было высказать, потому что хоть часть этих чувств да была же наверно.
С неудержимым отвращением и с неудержимым намерением все загладить я вдруг вскочил с дивана; но только что я вскочил, мигом выскочила Альфонсинка. Я схватил шубу и шапку и велел ей передать Ламберту, что я вчера бредил, что я оклеветал женщину, что я нарочно шутил и чтоб Ламберт не смел больше никогда приходить ко мне… Все это я высказал кое-как, через пень колоду, торопясь, по-французски, и, разумеется, страшно неясно, но, к удивлению моему, Альфонсинка все поняла ужасно; но что всего удивительнее, даже чему-то как бы обрадовалась.
— Oui, oui, — поддакивала она мне, — c’est une honte! Une dame… Oh, vous etes genereux, vous! Soyez tranquille, je ferai voir raison a Lambert… 146
Так что я даже в ту минуту должен был бы стать в недоумении, видя такой неожиданный переворот в ее чувствах, а стало быть, пожалуй, и в Ламбертовых. Я, однако же, вышел молча; на душе моей было смутно, и рассуждал я плохо! О, потом я все обсудил, но тогда уже было поздно! О, какая адская вышла тут махинация! Остановлюсь здесь и объясню ее всю вперед, так как иначе читателю было бы невозможно понять.
Дело состояло в том, что еще в первое свидание мое с Ламбертом, вот тогда, как я оттаивал у него на квартире, я пробормотал ему, как дурак, что документ зашит у меня в кармане. Тогда я вдруг на некоторое время заснул у него на диване в углу, и Ламберт тогда же немедленно ощупал мне карман и убедился, что в нем действительно зашита бумажка. Потом он несколько раз убеждался, что бумажка еще тут: так, например, во время нашего обеда у татар, я помню, как он нарочно несколько раз обнимал меня за талию. Поняв наконец, какой важности эта бумага, он составил свой совершенно особый план, которого я вовсе и не предполагал у него. Я, как дурак, все время воображал, что он так упорно зовет меня к себе, единственно чтоб склонить меня войти с ним в компанию и действовать не иначе как вместе. Но увы! он звал меня совсем для другого! Он звал меня, чтоб опоить меня замертво, и когда я растянусь без чувств и захраплю, то взрезать мой карман и овладеть документом. Точь-в-точь таким образом они с Альфонсинкой в ту ночь и поступили; Альфонсинка и взрезывала карман. Достав письмо, ее письмо, мой московский документ, они взяли такого же размера простую почтовую бумажку и положили в надрезанное место кармана и зашили снова как ни в чем не бывало, так что я ничего не мог заметить. Альфонсинка же и зашивала. А я-то, я-то до самого почти конца, еще целых полтора дня, — я все еще продолжал думать, что я — обладатель тайны и что участь Катерины Николаевны все еще в моих руках!
146 Да, да… это позор! Даму… О, как вы великодушны! Не беспокойтесь, я сумею образумить Ламберта… (франц.)