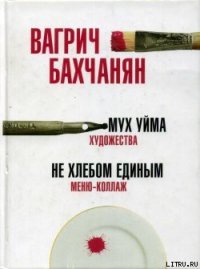Между двумя романами - Дудинцев Владимир Дмитриевич (электронную книгу бесплатно без регистрации .TXT) 📗
Я охотно соглашаюсь, бегу к жене, к детям - у нас завтра будет машина! Какие прыжки! И я вам скажу, друзья, что небесная у меня жизнь, потому что она все время изобилует то страш-ными ударами, то необыкновенными радостями. И чтобы их оценить по-настоящему, нужна подготовка, обязательно подготовка. Тут нужно понять. Когда хозяйка готовит печенку, она эту печенку долго как следует бьет скалкой, чтобы было вкусно, и она становится вкусной. Так что вот таким образом - это было величайшее счастье.
Я утром - он мне в 9 утра назначил свидание - я побрился, портфель для денег взял и к нему побежал по адресу, данному им мне. И вот вхожу. В дверях появляется необыкновенной длины и тонкости человек в очках, в сером костюме.
- Это вы, Владимир Дмитриевич, ну, пройдемте, - и проводит меня в маленькую комнату. Комната вся завалена бумажками, рукописями, какими-то чертежами, листами с какими-то химическими формулами. На том же столе сковородка с забытой картошкой. Квартира коммунальная; он одну комнату занимает. Телевизор, повсюду книги... Суетится, хлопочет, и я вижу на столе гору денежных бумажек... И все мятые, похожи на сухую курагу. Не у бухгалтера хранились, у ученого.
...И я засовываю всю эту колоссальную сумму в портфель. Он стоит, смотрит. Закрыл я портфель, благодарю, конечно. Он: "Ладно, не надо слишком долго благодарить - я спешу на работу". Я: "А расписка?" - "Никакой расписки не надо. Давайте выметайтесь скорее отсюда". Я говорю: "Все же без расписки нельзя". - "Ну ладно, - закричал он в отчаянии, - пишите вашу расписку, а я побежал на работу. Вот, значит, вот здесь пишите. Бумага на столе лежит. Пишите расписку и под телевизор засуньте, а потом закроете комнату и ключ положите на плинтус двери сверху. А я побежал. До свидания".
Я остаюсь один, пишу ему расписку, засовываю под телевизор, выхожу, запираю дверь, кладу ключ на плинтус сверху - и на улицу с деньгами.
Вот такой встретился на моем пути доктор химических наук Туницкий.
...И я купил "Победу". Красивую, цвета беж, роскошную. И как будто мне господь бог сверху решил с машиной помочь: расторгают договор. Тут же "Молодая гвардия" заключает договор, и сейчас же я возвращаю долг моему благодетелю с благодарностью и становлюсь полноправным владельцем машины.
Но история с "Победой" еще не закончилась; приключения продолжались. В это время моя жена с двумя старшими детьми была в Коктебеле, и я отправился их навестить. Со мною увязал-ся один ревнивец - мой друг, жена которого убежала в отпуск с любовником куда-то в те же места. Это был мой друг детства - как было ему не помочь! И мы понеслись по Симферополь-скому шоссе...
Мы неслись на скорости 100 километров в час. Он все время меня подначивал: "Медленно едешь". Да все изливал тоску страдающего сердца - о том, что нельзя спускать глаз с предмета любви. Уж и мне начали страшные картины чудиться: Наталка-то моя была в Коктебеле, одна! Я накручиваю скорость... И мы разбились на мокром шоссе недалеко от Белгорода покатились в кювет, несколько раз перевернулись. И оба уцелели. Он жене тут же послал телеграмму: "Я в катастрофе". Жена бросила любовника, немедленно к нему вернулась, и этот случай послужил к их полному примирению. Ну это так, небольшой экскурс для увеселения читателей.
(Жена. Должна добавить: ждем мы отца в Коктебеле, ждем не дождемся. Завтра уже уезжать. И вдруг получаем телеграмму: "Жив-здоров, машина вдребезги". Вернулись в Москву - отца нет. Второй день нет, третий.. Я начинаю волноваться. И вот, ночью, вламывается: "Наталка! Иди посмотри на нашу "Победу". Потолок с полом сплющился! Как это мыс Левкой еще уцелели ? Это моя сноровка, я его голову к ногам прижал и сам, как мог, сплющился. Да вставай же!" Очень веселый, очень чумазый и полный энергии. Машину выстучали, покрасили, и - бегала еще долго, служила нам.)
Глава 14
РАЗГРОМНЫЙ ПЛЕНУМ
Прошло уже столько лет, а до сих пор душа болит. Я понял теперь, что такое - душа болит. Эта боль сродни той боли, которую чувствует человек при инфаркте. Она может пройти, потом опять вспомниться... Такие боли, в конце концов накапливаясь, формируют какое-то необратимое изменение в сердце, после которого наступает качественный скачок...
У меня есть склонность, так сказать, к научному анализу. Вот я вспоминаю 8-й том Карамзина "О любви россиян к самодержавию". В частности, то место, где говорится об эпохе Ивана Грозного, об особенных качествах, заложенных той эпохой, об особенных каких-то прочных изменениях, оставленных Иваном Грозным. Привожу по памяти - вот что он пишет об опричнине: эта стая гладоносных насекомых, поднявшись, устремилась вглубь, вперед; не назад, а вперед, в глубь российской истории... То есть читающий эту главу должен подумать: "А не слышим ли мы до сих пор треска крыльев этой саранчи, не летают ли до сих пор эти насекомые, задевая нас, раня?" К чему я это говорю? Лопнула струна, прозвенела, я уже говорил, как в "Вишневом саду" или у Гоголя, "струна звенит в тумане"... И полился на мою голову мутный поток...
Был созван большой писательский пленум, и о нем был напечатан большой - чуть ли не на две страницы - отчет в "Литературной газете". Пленум длился два дня. Первый день закончил-ся, так сказать, моим торжеством. Я выступил и сказал откровенно, с детской такой открытостью все, что думал, что предполагал, когда писал роман. О том, что я прочитал партийное воззвание в газетах после XX съезда ко всем, в том числе и к писателям, чтобы критиковать недостатки. Вернее, нам, писателям, была прочитана речь Хрущева. Нас собирали и читали нам из красной книжки. Из текста этой речи я понял, что пишу как раз то, что надо. Я написал об изобретателях, может быть, одну двадцатую того, что публиковалось в газетах.
Была в "Правде" передовица, в которой говорилось, что на полках гниют 400 тысяч изобретений, получивших признание и авторские свидетельства. А я всего лишь об одном! От чистого сердца говорил. И, странным образом, такова, видно, сила уверенности в правоте, зал встал на мою сторону. Аплодировали отчаянно. Настойчиво, громко. И несколько раз, когда председатель взывал, пытаясь остановить меня ввиду истечения регламента, из зала кричали: "Продлить!" - и председатель сдавался. Я проговорил раза в три больше, чем положено. Кончилось тем, что объявили перерыв до следующего дня. Как я понял по поведению некоторых писателей, настроенных ко мне враждебно, что перерыв был сделан для того, чтобы те, которые в этот день молчали, могли перестроить свои ряды для нападения. Большая группа, в том числе Алексей Сурков, Василий Смирнов и еще кто-то, бегала куда-то, в ЦК, что ли, пугать, верно. Кого же слушать, как не маститых... Кого, как не писателей, имеющих за свой труд ордена... Вот они все приехали туда и хором что-то на меня наговорили. И после этого на следующий день, когда возобновилось заседание, с первых же слов услышал я треск крыльев тех самых "гладоно-сных насекомых", о которых писал Карамзин. Меня начали колотить. Отчаянно, не выбирая слов, забыв о писательской интеллигентности.
Расскажу о некоторых, наиболее ярких выступлениях. Выступила Галина Серебрякова, только что вернувшаяся из лагерей. Она прямо плясала на трибуне, рвала гипюр на груди и кричала, что этот Дудинцев...! Вот я, говорит, я была там! Вот у меня здесь, смотрите, следы, что они там со мной делали! А я все время думала: спасибо дорогому товарищу Сталину, спасибо партии, что послала меня на эти страшные испытания, дала мне возможность проверить свои убеждения! Прямо Иов в юбке! Правда, не совсем точно, потому что Иов все время роптал, а тут негатив Иова: ей было послано испытание, она выстояла, а этот Дудинцев, который ничего подобного не испытал, смотрите, как он страшно замахнулся на наше святое! (Но ведь этого не было! Если я замахнулся на святое, то почему роман потом трижды переиздавали массовым тиражом, и сейчас люди говорят: ну что там, какая критичность!) Вот так она говорила.
Вышла на трибуну Прилежаева, детская писательница. И она тоже кричала отчаянным криком. Говорила, что если бы к нам пришли американцы, они бы всех нас перевешали, а вот Дудинцева посадили бы в Москве мэром!