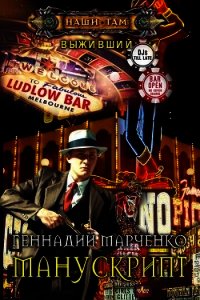Университеты Анатолия Марченко - Марченко Анатолий Тимофеевич (читать хорошую книгу txt) 📗
В это время открылась дверь и в камеру вбежали надзиратели. Растаскивать было уже некого, они остановились и стали разглядывать камеру и нас всех. Дежурная надзирательница, злобная, маленькая, старая, показывая пальцем на меня и на Ивана, начала объяснять:
- Гляжу в глазок (а она была такая карлица, что и до глазка не доставала, всегда таскала с собой легкую скамеечку; ходит от камеры к камере, ставит скамеечку, взбирается на нее и смотрит в глазок; вредная - в ее дежурство, в особенности если кто приболеет, или так задремлет, лечь на смей: углядит непременно и сразу рапорт, а затем в карцер), - гляжу в глазок, а этот на этого чайником...
Почему-то по ее получалось, что это я чайником замахивался; ну, да не все ли равно!
Часа через два нас обоих повели к начальнику корпуса.
- Как вас вести, вместе или по одному? - ехидно спросил надзиратель. Дело в том, что когда начальник распределяет наказания за драку или еще что - лишить ли ларька, перевести ли на строгую норму питания, на строгий режим, - нередко провинившиеся начинают просить, даже плакать, оговаривая друг друга, выгораживая каждый себя. Такие сцены доставляют надзирателям огромное удовольствие. Видимо, и сейчас наш провожатый предвкушал подобный спектакль - если мы попросим вести нас врозь.
- Мне все равно; хоть и вовсе не ходить, - ответил я. Объявили бы в камере, что мне причитается, так всего лучше.
- И мне все равно, - сказал Иван, немного поколебавшись.
Корпусной майор Цупляк разговаривал у себя в кабинете с надзирателями. Когда нас ввели, он прервал беседу, глянул на нас, на Ивана подольше, видно, вспомнил:
- 54-я? Подходяще разукрасили. Опять чужое съел? Обоих на месяц на строгое питание! Уведите их, давайте из 79-й.
Иван заикнулся было:
- Гражданин начальник...
Но нас обоих вытолкали, повели по коридору - и снова в камеру. На следующее утро мы уже получили по 400 грамм хлеба и завтракали одной килькой, без супа. Меня больше всего мучило, что на штрафном пайке Иван оказался из-за меня. Он к тому же тяжелее других переживал голод. Ему казалось, что он не выдержит месяц на строгом питании. Он решил покончить с собой. Через два дня после нашей драки он достал где-то лезвие и вскрыл себе вены на обеих руках. Это произошло после раздачи хлеба. Иван получил свою штрафную пайку, съел ее, чтоб не пропадала, - а вдруг он умрет или окажется в больнице, так и не съевши свой хлеб? - и чиркнул лезвием по венам. В это время шла раздача завтрака, и надзиратели дольше обычного не заглядывали в глазок. Дали завтрак и в нашу камеру. Иван, у которого из обеих рук било по фонтанчику крови, попросил, чтобы его кильку никто не трогал. Его вырвало только что съеденным хлебом, блевотина перемешалась на полу с кровью. Однако мы, остальные, съели свой завтрак, как обычно, ничего не ощущая, кроме голода. Павел Иванович, обтерев корочкой свою миску, положил остатки хлеба в ящик и начал молиться. Вот, разве, молился он дольше обычного.
Наконец надзиратель заглянул в глазок и обнаружил случившееся. Он вызвал сестру. Она перетянула руки Ивана жгутом и стала делать перевязку, приговаривая:
- Ну, порезал себя, а зачем? Умер бы - кто бы о тебе доброе слово сказал? Разве вот они, - она кивнула на нас, - и то, если ты человек хороший...
Надзиратели стояли над Иваном, курили, переговаривались. Старший грозился перетрясти всю камеру, если Иван не скажет, чем резался. Тогда Иван сам отдал лезвие, чтобы нас из-за него не мучили лишним обыском.
Перевязка закончилась, сестра и надзиратели ушли. Мы кое-как убрали камеру, вытерли с пола кровь и блевотину. Иван лежал на койке, длинный, худой, еще бледнее, чем всегда, весь в крови. Рукава рубашки закатаны по самые плечи, руки перебинтованы. Наступило время обеда, принесли баланду; Ивану, как и мне - штрафную норму. Встать он не мог, его миску мы подали ему на койку. Он взял ее своими перебинтованными окровавленными руками, выпил через край, вылизал, потом попросил дать ему его кильку от завтрака. Жадно съел ее без хлеба - хлеб-то он весь, до крошки, съел еще утром.
Глядя на Ивана, я думал: вот лежит человек, который из-за тебя голодал больше, чем обычно; из-за тебя хотел умереть. Если он донимал тебя своей жадностью, разговором о жратве, если дошел до подлости - так разве он виноват в этом? А тыто сам лучше, что ли? Кинулся на такого же беззащитного и обездоленного, как ты сам! Да если уж ты такой слабый, что не можешь совладать с собой, со своими нервами, - отчего ж ты тогда не съездил по физиономии надзирателю, который издевается над тобой каждый день? Только потому, что за несчастного зэка тебе грозит штрафной паек, самое большее карцер; а за надзирателя - могут и расстрелять по Указу. Значит, ты уже отравлен страхом, страх руководит твоими действиями...
Я думал о себе самом. Во что меня превратила тюрьма за несколько месяцев! Когда я впервые очутился в камере, мне казалось, что здесь и дня нельзя прожить. Я даже не мог сходить по легкому в парашу, меня мутило от одной мысли о том, что здесь же придется есть и спать, что здесь едят и спят и оправляются другие заключенные... А сегодня я жадно съедаю свою кильку среди крови и блевотины, и мне кажется, что нет ничего вкуснее этой кильки. Человек истекает кровью на моих глазах, а я досуха вылизываю свою миску и думаю только о том, чтобы поскорее опять принесли поесть.
Осталось ли во мне, во всех нас здесь еще хоть что-то человеческое?
Иван лежал, не подымаясь, дня два-три. Потом начал вставать. Через несколько дней его уже выгоняли на прогулку и не разрешали прилечь днем, грозя карцером. Ему объявили постановление, что за членовредительство и за принесение лезвия лишают посылок на четыре месяца. На Ивана было больно смотреть - он ведь так мечтал о посылке. А тут еще строгое питание! Каждый день при раздаче пищи Иван-мордвин стоял у кормушки и канючил:
- Ну, добавь хоть крошечку! Хоть пол-ложки плесни еще! Ни разу ему не добавили ни грамма - и все-таки трижды в день он ныл и плакал у кормушки. Сначала всем нам, и мне в особенности, было жаль его. Потом это стало всех раздражать и злить. Но как его ни ругали сокамерники, Иван продолжал каждый день умолять о добавке. Ему уже не было стыдно, он чувствовал только голод, голод, голод.
Каждый, кто сидел во Владимирке, знал о случаях, пострашнее даже людоедства. В одной камере, например, зэки проделали вот что: они раздобыли лезвие, несколько дней копили бумагу. Подготовив все, что надо, они вырезали каждый у себя по куску мяса - кто от живота, кто от ноги. Кровь собрали в одну миску, покидали туда мясо, развели небольшой костер из бумаги и книги, и стали все это то ли жарить, то ли варить. Когда надзиратели заметили непорядок и вбежали в камеру, варево еще не было готово и зэки, торопясь и обжигаясь, хватали куски из миски и спешили засунуть их в рот. Даже надзиратели говорили после, что это было страшное зрелище.
Я представляю себе, что в эту историю трудно поверить. Но я сам видел потом некоторых участников страшного пира, разговаривал с ними. Больше всего меня поразило, что это были вполне нормальные люди. Эта история не розыгрыш; я сам видел Юрия Панова из этой камеры - на его теле не было живого места. Кроме этого случая, когда Панов вместе с другими решил полакомиться собственным мясом, он не раз вырезывал куски своего тела и выбрасывал их надзирателям в кормушку; несколько раз вспарывал себе живот и выпускал внутренности; вскрывал вены; объявлял многодневные голодовки, глотал всякую всячину, и ему разрезали живот и желудок в больнице. И все-таки он живым выбрался из Владимирки, был на седьмом, а потом на одиннадцатом. Мы рассказали о нем писателю Юлию Даниэлю, когда он оказался на одиннадцатом и подружился с нашей компанией. Юлий сначала не хотел верить, потом стал просить нас, чтобы мы познакомили его с Пановым. Но случилось так, что Юлия свели с Пановым не мы, а начальство, - Юлий угодил в карцер, Панов был там тоже, и вот карцер повели в баню... Юлий нам после рассказывал, что чуть в обморок не упал, когда увидел Панова нагишом. [...]