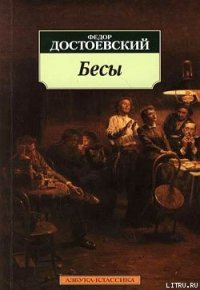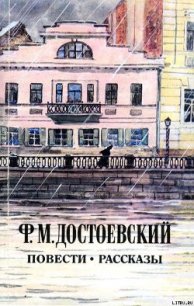Бесы - Достоевский Федор Михайлович (книги бесплатно без регистрации .TXT) 📗
— Легче, — ответил Ставрогин вполголоса, опуская глаза. Если бы вы меня простили, мне было бы гораздо легче, — прибавил он неожиданно и полушепотом.
— С тем, чтоб и вы меня также, — проникнутым голосом промолвил Тихон.
— За что? что вы мне сделали? Ах, да, это монастырская формула?
— За вольная и невольная. Согрешив, каждый человек уже против всех согрешил и каждый человек хоть чем-нибудь в чужом грехе виноват. Греха единичного нет. Я же грешник великий, и, может быть, более вашего.
— Я вам всю правду скажу: я желаю, чтобы вы меня простили, вместе с вами другой, третий, но все — все пусть лучше ненавидят. Но для того желаю, чтобы со смирением перенести…
— А всеобщего сожаления о вас вы не могли бы с тем же смирением перенести?
— Может быть, и не мог бы. Вы очень тонко подхватываете. Но… зачем вы это делаете?
— Чувствую степень вашей искренности и, конечно, много виноват, что не умею подходить к людям. Я всегда в этом чувствовал великий мой недостаток, — искренне и задушевно промолвил Тихон, смотря прямо в глаза Ставрогину, — Я потому только, что мне страшно за вас, — прибавил он, — перед вами почти непроходимая бездна.
— Что не выдержу? что не вынесу со смирением их ненависти?
— Не одной лишь ненависти.
— Чего же еще?
— Их смеху, — как бы через силу и полушепотом вырвалось у Тихона.
Ставрогин смутился; беспокойство выразилось в его лице.
— Я это предчувствовал, — сказал он. — Стало быть, я показался вам очень комическим лицом по прочтении моего «документа», несмотря на всю трагедию? Не беспокойтесь, не конфузьтесь… я ведь и сам предчувствовал.
— Ужас будет повсеместный и, конечно, более фальшивый, чем искренний. Люди боязливы лишь перед тем, что прямо угрожает личным их интересам. Я не про чистые души говорю: те ужаснутся и себя обвинят, но они незаметны будут. Смех же будет всеобщий.
— И прибавьте замечание мыслителя, что в чужой беде всегда есть нечто нам приятное .
— Справедливая мысль.
— Однако же вы… вы-то сами… Я удивляюсь, как дурно вы думаете про людей, как гадливо, — с некоторым видом озлобления произнес Ставрогин.
— А верите, я более по себе судя сказал, чем про людей! — воскликнул Тихон.
— В самом деле? да неужто же есть в душе вашей хоть что-нибудь, что вас здесь веселит в моей беде?
— Кто знает, может, и есть. О, может, и есть!
— Довольно. Укажите же, чем именно я смешон в моей рукописи? Я знаю чем, но я хочу, чтоб указали вы вашим пальцем. И скажите поциничнее, скажите именно со всею тою искренностью, к которой вы способны. И еще повторю вам, что вы ужасный чудак.
— Даже в форме самого великого покаяния сего заключается уже нечто смешное. О, не верьте тому, что не победите! — воскликнул он вдруг почти в восторге, — даже сия форма победит (указал он на листки), если только искренно примете заушение и заплевание. Всегда кончалось тем, что наипозорнейший крест становился великою славой и великою силой, если искренно было смирение подвига. Даже, может, при жизни вашей уже будете утешены!..
— Итак, вы в одной форме, в слоге, находите смешное? — настаивал Ставрогин.
— И в сущности. Некрасивость убьет, — прошептал Тихон, опуская глаза.
— Что-с? некрасивость? чего некрасивость?
— Преступления. Есть преступления поистине некрасивые. В преступлениях, каковы бы они ни были, чем более крови, чем более ужаса, тем они внушительнее, так сказать, картиннее; но есть преступления стыдные, позорные, мимо всякого ужаса, так сказать, даже слишком уж не изящные…
Тихон не договорил.
— То есть, — подхватил в волнении Ставрогин, — вы находите весьма смешною фигуру мою, когда я целовал ногу грязной девчонки… и все, что я говорил о моем темпераменте и… ну и всё прочее… понимаю. Я вас очень понимаю. И вы именно потому отчаиваетесь за меня, что некрасиво, гадливо, нет, не то что гадливо, а стыдно, смешно, и вы думаете, что этого-то я всего скорее не перенесу?
Тихон молчал.
— Да, вы знаете людей, то есть знаете, что я, именно я, не перенесу… Понимаю, почему вы спросили про барышню из Швейцарии, здесь ли она?
— Не приготовлены, не закалены, — робко прошептал Тихон, опустив глаза.
— Слушайте, отец Тихон: я хочу простить сам себе, и вот моя главная цель, вся моя цель! — сказал вдруг Ставрогин с мрачным восторгом в глазах. — Я знаю, что только тогда исчезнет видение. Вот почему я и ищу страдания безмерного, сам ищу его. Не пугайте же меня.
— Если веруете, что можете простить сами себе и сего прощения себе в сем мире достигнуть, то вы во всё веруете! — восторженно воскликнул Тихон. — Как же сказали вы, что в бога не веруете?
Ставрогин не ответил.
— Вам за неверие бог простит, ибо духа святого чтите, не зная его.
— Кстати, Христос ведь не простит, — спросил Ставрогин, и в тоне вопроса послышался легкий оттенок иронии, — ведь сказано в книге: «Если соблазните единого от малых сих» — помните? По Евангелию, больше преступления нет и не может (быть). Вот в этой книге!
Он указал на Евангелие.
— Я вам радостную весть за сие скажу, — с умилением промолвил Тихон, — и Христос простит, если только достигнете того, что простите сами себе… О нет, нет, не верьте, я хулу сказал: если и не достигнете примирения с собою и прощения себе, то и тогда Он простит за намерение и страдание ваше великое… ибо нет ни слов, ни мысли в языке человеческом для выражения всех путей и поводов Агнца, «дондеже пути его въявь не откроются нам». Кто обнимет его, необъятного, кто поймет всего, бесконечного!
Углы губ его задергались, как давеча, и едва заметная судорога опять прошла по лицу. Покрепившись мгновение, он не выдержал и быстро опустил глаза.
Ставрогин взял с дивана свою шляпу.
— Я приеду и еще когда-нибудь, — сказал он с видом сильного утомления, — мы с вами… я слишком ценю удовольствие беседы и честь… и чувства ваши. Поверьте, я понимаю, почему иные вас так любят. Прошу молитв ваших у Того, которого вы так любите..
— И вы идете уже? — быстро привстал и Тихон, как бы не ожидав совсем такого скорого прощания. — А я… — как бы потерялся он, — я имел было представить вам одну мою просьбу, но… не знаю как… и боюсь теперь.
— Ах, сделайте одолжение. — Ставрогин немедленно сел, имея шляпу в руке. Тихон посмотрел на эту шляпу, на эту позу, позу человека, вдруг сделавшегося светским, и взволнованного, и полупомешанного, дающего ему пять минут для окончания дела, и смутился еще более.
— Вся просьба моя лишь в том, что вы… ведь вы уже сознаетесь, Николай Всеволодович (так, кажется, ваше имя и отчество?), что если огласите ваши листки, то испортите вашу участь… в смысле карьеры, например, и… в смысле всего остального.
— Карьеры? — Николай Всеволодович неприятно поморщился.
— К чему же бы портить? К чему бы, казалось, такая непреклонность? — почти просительно, с явным сознанием собственной неловкости заключил Тихон. Болезненное впечатление отразилось на лице Николая Всеволодовича.
— Я вас уже просил, прошу вас еще: все слова ваши будут излишни… да и вообще все наше объяснение начинает быть невыносимым.
Он знаменательно повернулся в креслах.
— Вы меня не понимаете, выслушайте и не раздражайтесь. Вы мое мнение знаете: подвиг ваш, если от смирения, был бы величайшим христианским подвигом, если бы выдержали. Даже если б и не выдержали, всё равно вам первоначальную жертву сочтет господь. Всё сочтется: ни одно слово, ни одно движение душевное, ни одна полумысль не пропадут даром. Но я вам предлагаю взамен сего подвига другой, еще величайший того, нечто уже несомненно великое…
Николай Всеволодович молчал.
— Вас борет желание мученичества и жертвы собою; покорите и сие желание ваше, отложите листки и намерение ваше — и тогда уже все поборете. Всю гордость свою и беса вашего посрамите! Победителем кончите, свободы достигнете…