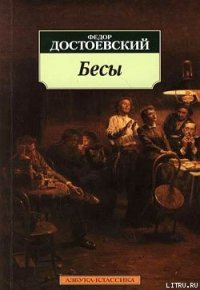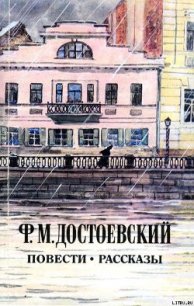Бесы - Достоевский Федор Михайлович (книги бесплатно без регистрации .TXT) 📗
Дополнительные сведения о переломе в творческой истории „Бесов“ содержит письмо к Каткову от 8 (20) октября 1870 г. Писатель разъясняет здесь замысел „Бесов“ и сообщает, что „одним из числа крупнейших происшествий“ романа является „известное в Москве убийство Нечаевым Иванова“, хотя „ни Нечаева, ни Иванова, ни обстоятельств того убийства“ он не знает, „кроме как из газет“. Далее Достоевский предостерегает от попыток отождествлять Петра Верховенского с реальным Нечаевым, „…мой Петр Верховенский, — замечает писатель, — может нисколько не походить на Нечаева; но мне кажется, что в пораженном уме моем создалось воображением то лицо, тот тип, который соответствует этому злодейству". Чрезвычайно интересна в этом письме авторская характеристика образов Петра Верховенского и Ставрогина, дающая ключ к пониманию сущности совершившейся летом 1870 г. переработки романа. Достоевский объясняет, почему Петр Верховенский не стал главным героем романа. „Без сомнения, — замечает он, — небесполезно выставить такого человека; но он один не соблазнил бы меня. По-моему, эти жалкие уродства не стоят литературы. К собственному моему удивлению, это лицо наполовину выходит у меня лицом комическим. И потому, несмотря на то, что все это происшествие занимает один из первых планов романа, оно, тем не менее, — только аксессуар и обстановка действий другого лица, которое действительно могло бы назваться главным лицом романа. Это другое лицо (Николай Ставрогин) — тоже мрачное лицо, тоже злодей. Но мне кажется, что это лицо — трагическое, хотя многие наверно скажут по прочтении: «Что это такое?» Я сел за поэму об этом лице потому, что слишком давно уже хочу изобразить его. По моему мнению, это и русское и типическое лицо. Мне очень, очень будет грустно, если оно у меня не удастся. Еще грустнее будет, если услышу приговор, что лицо ходульное. Я из сердца взял его. Конечно, это характер, редко являющийся во всей своей типичности, но это характер русский (известного слоя общества). <…> Что-то говорит мне, что я с этим характером справлюсь. <…> Замечу одно: весь этот характер записан у меня сценами, действием, а не рассуждениями; стало быть, есть надежда, что выйдет лицо. <…> Но не всё будут мрачные лица; будут и светлые. Вообще боюсь, что многое не по моим силам. В первый раз, например, хочу прикоснуться к одному разряду лиц, еще мало тронутых литературой. Идеалом такого лица беру Тихона Задонского. Это тоже Святитель, живущий на спокое в монастыре. С ним сопоставляю и свожу на время героя романа“ (XXIX1, 141–142).
В письме к H. H. Страхову от 9 (21) октября 1870 г. Достоевский уже прямо связывает коренную переработку романа с изменившейся ролью Ставрогина. „Потом летом опять перемена: выступило еще новое лицо, с претензией на настоящего героя романа, так что прежний герой (лицо любопытное, но действительно не стоящее имени героя) стал на второй план. Новый герой до того пленил меня, что я опять принялся за переделку. И вот теперь, как уже отправил в редакцию «Р<усского> вестника» начало начала, — я вдруг испугался: боюсь, что не по силам взял тему <…> А между тем я ведь ввел героя не с бух-да-барах. Я предварительно записал всю его роль в программе романа (у меня программа в несколько печатных листов), и вся записалась одними сценами, то есть действием, а не рассуждениями. И потому думаю, что выйдет лицо и даже, может быть, новое; надеюсь, но боюсь“ (ХХ1Х1 148–149).
Итак, приблизительно в начале августа 1870 г. после припадков, продолжавшихся почти весь июль, когда Достоевский не мог работать, он отказался от первоначального плана романа, по которому уже было написано около 15 печ. листов связного текста [341] и пришел к намерению радикально“ переделать роман в соответствии с „новой идеей“ Это решение вероятно, совпало с тем моментом, когда Достоевский в связи с затянувшейся работой над „Бесами“ был вынужден отказаться от мечты осуществить в ближайшее время эпопею „Житие великого грешника“ (ср. августовское письмо к В. В. Кашпиреву 1870 г.). Очевидно, именно теперь Достоевский решил перенести в „Бесы“ некоторые образы, ситуации, религиозно-нравственные идеи „Жития“ и тем самым придать роману большую философскую глубину. Из „Жития великого грешника“ в „Бесы“ переходят образы архиерея Тихона и Хромоножки (разумеется, в творчески преображенном варианте), призванных свершить над героем, оторвавшимся от национальной почвы, суд высшей, народной этики, неотделимой, по мнению писателя, от религиозных представлений о добре и зле. Очевидно, летом 1870 г. Достоевский окончательно решает ввести в роман главу о неудавшемся покаянии Ставрогина у Тихона, сделав ее сюжетно-композиционным и идейно-философским центром романа. [342] Так можно понять слова писателя о новом плане (композиции) романа, представившемся ему после июльских припадков „в полной ясности“ (см. цитировавшееся выше письмо к С. А. Ивановой от 17 (29) августа 1870 г.).
В связи с окончательно определившимся творческим замыслом изобразить предельное нравственное падение героя и его мучительную попытку найти в себе силы к духовному возрождению („падение“ и восстание") образ Ставрогина усложняется и обогащается чертами противоречивого психологического облика Великого грешника.
В представлении Достоевского Ставрогин одновременно трагический герой и типическое русское лицо, характерное для „известного слоя общества“, т. е. той части русской интеллигенции, которая утратила связи с народной религиозно-нравственной традицией.
Очевидно, что предпосылки нового этапа творческой истории романа „Бесы“, окончательно определившегося в начале августа 1870 г., следует искать в июньских записях к роману, так как в июле Достоевский, по собственному признанию, почти не работал из-за эпилептических припадков. Характерно, что именно в июньских набросках Ставрогин (Князь) действительно „записан сценами“, изображающими его диалоги с Шатовым и Тихоном.
Князь предстает здесь как идеолог своеобразной концепции русского народа —„богоносца“, призванного нравственно обновить больное европейское человечество. Наиболее законченное обоснование религиозно-нравственные идеи Князя получили в „Фантастических страницах“, непосредственно ведущих к таким основополагающим для понимания идейно-философской проблематики „Бесов“ главам второй части романа, как „Ночь“ и „Ночь, продолжение“, где впервые раскрывается сокровенная сущность духовного мира Ставрогина с его предельной раздвоенностью и равновеликим тяготением к вере и безверию, к добру и злу.
В наброске, озаглавленном „Фантастическая страница (Для 2-й и 3-й части)" и помеченном 23 июня 1870 г., дана следующая характеристика Князя, как бы предваряющая и поясняющая его дальнейшие религиозно-философские диалоги с Шатовым: „Князь ищет подвига, дела действительного, заявления русской силы о себе миру. Идея его — православие настоящее, деятельное (ибо кто нынче верует). Нравственная сила прежде экономической. (NB. Не верит в бога и имеет в уме подвиг у Тихона) “ „ВООБЩЕ ИМЕТЬ В ВИДУ, что Князь обворожителен, как демон, и ужасные страсти борются с подвигом. При этом неверие и мука — от веры. Подвиг осиливает, вера берет верх, но и бесы веруют и трепещут. «Поздно», — говорит Князь и бежит в Ури, а потом повесился“ (XI, 173–175).
„ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ КНЯЗЯ, КОТОРОЮ БЫЛ ПОРАЖЕН ШАТОВ И ВПОЛНЕ СТРАСТНО УСВОИЛ ЕЕ, — СЛЕДУЮЩАЯ: ДЕЛО НЕ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, А В НРАВСТВЕННОСТИ, не в экономическом, а в нравственном возрождении России“. „Нравственность и вера одно…“. Православие, сохранившее христианство в его чистом, неискаженном виде, „заключает в себе разрешение всех вопросов, нравственных и социальных“ („Если б представить, что все Христы, то мог ли быть пауперизм?“). Итак, „главная сущность вопроса: христианство спасет мир и одно только может спасти <…> Далее: христианство только в России есть, в форме православия <…> Итак, Россия спасет и обновит мир православием <…> Если будет веровать“ (XI, 196, 188, 180, 182, 185)
341
Эта забракованная редакция „Бесов“ разделила печальную участь ряда других рукописей писателя, сожженных перед возвращением Достоевских в Россию в июле 1871 г. А. Г. Достоевская сообщает по этому поводу: „За два дня до отъезда Федор Михайлович призвал меня к себе, вручил несколько толстых пачек исписанной бумаги большого формата и попросил их сжечь. <…> Мы растопили камин и сожгли бумаги. Таким
342
Подробнее о творческой истории главы „У Тихона“ см. с. 757–763.