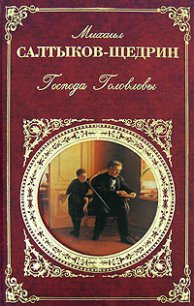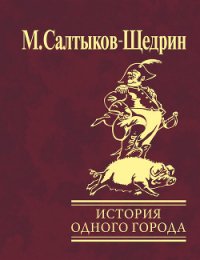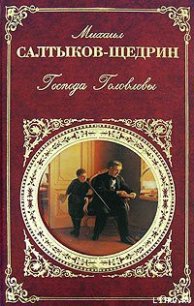История одного города. Господа Головлевы. Сказки - Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (книги онлайн без регистрации .txt) 📗
Крамольников не счел нужным продолжать беседу и пошел дальше. Но так как на пути его стоял дом, в котором жил давний его однокашник, то он и зашел к нему, думая хоть тут отвести душу.
Лакей принял его радушно; по-видимому, он ничего еще не знал. Он сказал, что Дмитрия Николаича нет дома, а Аглая Алексеевна в гостиной. Крамольников отворил дверь, но едва переступил порог гостиной, как сидевшая в ней дама взвизгнула и убежала. Крамольников отретировался.
Наконец он вспомнил, что на Песках живет старый его сослуживец (Крамольников лет пятнадцать назад тоже служил в департаменте Грешных Помышлений), Яков Ильич Воробушкин. Человек этот был большой почитатель Крамольникова и служил неудачно. С лишком десять лет тянул он лямку столоначальника, не имея в перспективе никакого повышения и при каждой перемене веяния дрожа за свое столоначальничество. Робкий и неискательный от природы, он и на частной службе приютиться не мог. Как-то с самого начала он устроил себя так, что ему самому казалось странным чего-нибудь искать, подавать записки об уничтожении и устранении, слоняться по передним и лестницам и т. д. Раз только он подал записку о необходимости ободрить нищих духом; но директор, почитав ее, только погрозил ему пальцем, и с тех пор Воробушкин замолчал. В последнее время, однако ж, он начал смутно надеяться, стал ходить в ту самую церковь, куда ходил его начальник, так что последний однажды подарил ему половину заздравной просфоры (донышко) и сказал: «Очень рад!» Таким образом, дело его было уже на мази, как вдруг…
Крамольникову отворила дверь старая нянька, сзади которой, из внутренних дверей, выглядывали испуганные лица детей. Нянька была сердита, потому что нежданный посетитель помешал ей ловить блох. Она напрямки отрезала Крамольникову.
— Нет Якова Ильича дома; его из-за вас к начальнику позвали, и жив он теперь или нет — неизвестно; а барыня в церкву молиться ушли.
Крамольников стал спускаться по лестнице, но едва сделал несколько шагов, как встретил самого Воробушкина.
— Крамольников! простите меня, но я не могу поддерживать наши старые отношения! — сказал Воробушкин взволнованным голосом. — На этот раз, впрочем, я, кажется, оправдался, но и то наверное поручиться не могу. Директор так и сказал: «На вас неизгладимое пятно!» А у меня жена, дети! Оставьте меня, Крамольников! Простите, что я такой малодушный, но я не могу…
Крамольников воротился домой удрученный, почти испуганный.
Что отныне он был осужден на одиночество — это он сознавал. Не потому он был одинок, что у него не было читателя, который ценил, а быть может, и любил его, а потому, что он утратил всякое общение с своим читателем. Этот читатель был далеко и разорвать связывающие его узы не мог. Напротив, был другой читатель, ближний, который во всякое время имел возможность зажалить Крамольникова до смерти. Этот остался налицо и нагло выражал, что самая немота Крамольникова ему ненавистна.
Смутно проносилось в его уме, что во всех отступничествах, которых он был свидетелем, кроется не одно личное предательство, а целый подавляющий порядок вещей. Что все эти вчерашние свободные мыслители, которые еще недавно так дружелюбно жали ему руки, а сегодня чураются его, как чумы, делают это не только страха ради иудейска, но потому, что их придавило.
Их придавила жажда жизни; а так как жажда эта вполне законна и естественна, то Крамольникову становилось страшно при этой мысли. «Неужто, — спрашивал он себя, — для того, чтобы удержать за собой право на существование, нужно пройти сквозь позорное и жестокое иго? Неужто в этом загадочном мире только то естественно, что идет вразрез с самыми заветными и дорогими стремлениями души?»
Или опять: почти всякий из недавних его собеседников ссылался на семью; один говорил: «Жена принарядиться любит»; другой: «Жена» — и больше ничего… Но особенно тяжко выходило это у Воробушкина, Семья ему душу рвала. Вероятно, он лишал себя всего, плохо ел, плохо спал, добывал на стороне работишку — все ради семьи. И, за всем тем, добывал так мало, что только самоотверженность Лукерьи Васильевны (жены Воробушкина) помогала переносить эту нужду. И вот, ради этого малого, ради нищенской подачки…
Что же это такое? Что такое семья? Как устроиться с семейным началом? Как сделать, чтобы оно не было для человека египетской язвой, не тянуло его во все стороны, не мешало быть гражданином?
Крамольников думал-думал, и вдруг словно кольнуло его.
«Отчего же, — говорил ему внутренний голос, — эти жгучие вопросы не представлялись тебе так назойливо прежде, как представляются теперь? Не оттого ли, что ты был прежде раб, сознававший за собой какую-то мнимую силу, а теперь ты раб бессильный, придавленный? Отчего, ты не шел прямо и не самоотвергался? Отчего ты подчинял себя какой-то профессии, которая давала тебе положение, связи, друзей, а не спешил туда, откуда раздавались стоны? Отчего ты не становился лицом к лицу с этими стонами, а волновался ими только отвлеченно?
Из-под пера твоего лился протест, но ты облекал его в такую форму, которая делала его мертворожденным. Все, против чего ты протестовал, — все это и поныне стоит в том же виде, как и до твоего протеста.
Твой труд был бесплоден. Это был труд адвоката, у которого язык измотался среди опутывающих его лжей. Ты протестовал, но не указал ни того, что нужно делать, ни того, как люди шли вглубь и погибали, а ты слал им вслед свое сочувствие. Но это было пленное раздражение мысли — раздражение, положим, доброе, но все-таки только раздражение. Ты даже тех людей, которые сегодня так нагло отвернулись от тебя, — ты и их не сумел понять. Ты думал, что вчера они были иными, нежели сегодня.
Правда, ты не способен идти следом за этими людьми; ты не способен изменить тем добрым раздражениям, которые с молодых ногтей вошли тебе в плоть и кровь. Это, конечно, зачтется тебе… где и когда? Но теперь, когда тебя со всех сторон обступила старость, с ее недугами, рассуди сам. что тебе предстоит?..»
Post scriptum от автора. Само собой разумеется, что все написанное выше — не больше как сказка. Никакого Крамольникова нет и не было; отступники же и переметные сумы водились во всякое время, а не только в данную минуту. А так как и во всем остальном все обстоит благополучно, то не для чего было и огород городить, в чем автор и кается чистосердечно перед читателями.
ХРИСТОВА НОЧЬ [251]
(Предание)
Равнина еще цепенеет [252], но среди глубокого безмолвия ночи под снежною пеленою уже слышится говор пробуждающихся ручьев. В оврагах и ложбинах этот говор принимает размеры глухого гула и предостерегает путника, что дорога в этом месте изрыта зажорами. Но лес еще молчит, придавленный инеем, словно сказочный богатырь железною шапкою. Темное небо сплошь усыпано звездами, льющими на землю холодный и трепещущий свет. В обманчивом его мерцании мелькают траурные точки деревень, утонувших в сугробах. Печать сиротливости, заброшенности и убожества легла и на застывшую равнину, и на безмолвствующий проселок. Все сковано, беспомощно и безмолвно, словно задавлено невидимой, но грозной кабалой.
Но вот в одном конце равнины раздалось гудение полночного колокола; навстречу ему, с противоположного конца, понеслось другое, за ним — третье, четвертое. На темном фоне ночи вырезались горящие шпили церквей, и окрестность вдруг ожила. По дороге потянулись вереницы деревенского люда. Впереди шли люди серые, замученные жизнью и нищетою, люди с истерзанными сердцами и с поникшими долу головами. Они несли в храм свое смирение и свои воздыхания; это было все, что они могли дать воскресшему богу. За ними, поодаль, следовали в праздничных одеждах деревенские богатей, кулаки и прочие властелины деревни. Они весело гуторили меж собою и несли в храм свои мечтания о предстоящем недельном ликовании. Но скоро толпы народные утонули в глубине проселка; замер в воздухе последний удар призывного благовеста, и все опять торжественно смолкло.
251
--
Впервые: Р. вед. 1886, 7 сентября. № 245. С. 1–2; в качестве первого номера, вместе со сказкой "Путем-дорогою". Подпись: Н. Щедрин.
"Христова ночь" писалась в марте 1886 г. для пасхального номера "Русских ведомостей". 23 марта 1886 г. Салтыков сообщал Михайловскому: "Пробовал я вчера писать сказку: едва могу держать перо; пробовал диктовать сказку жене, но выходит банально. Боюсь, что к Святой не поспею" (XX, 247–248). Сказка или не была своевременно закончена, или по каким-то причинам задержалась в продвижении и была напечатана только в сентябре.
Сохранились черновой автограф первой (незаконченной) редакции под заглавием "Христова ночь. I" ("Равнина еще цепенеет ~ укажу вам путь ко спасению") и полный беловой автограф под заглавием "I. Христова ночь. Предание" (первоначально: "Народное предание") (ИРЛИ). Первый из них отличается от публикации в "Русских ведомостях" отсутствием ряда фрагментов, введенных в текст на более поздних этапах работы, второй идентичен ей, за исключением трех случаев.
С. 177, строка 19 снизу. Вместо: «ты скоро сознал свой позор» — в автографе: «ты скоро осознал охвативший тебя со всех сторон позор».
С. 178, строка 6 сверху. Вместо: «и прошипит» — в автографе: «и скажет».
С. 178, строка 7 сверху. Слова: «на время судьба сжалится над тобою» — в автографе отсутствуют.
В сказке «Христова ночь», посвященной моральным проблемам, Салтыков использует евангельские мифы и форму христианской проповеди. Однако, несмотря на обращение к мифу о предательстве Иуды и воскресении Христа, по своему пафосу сказка прямо противоположна проповеди религиозного смирения. В ней отвергается идея прощения предателя и звучит призыв беспощадно карать его. Перспектива грядущего освобождения от социального гнета рисуется в сказке как победа познавшей себя народной силы над богатеями и жестокими правителями.
Содержание сказки — это и страстная речь в защиту загубленных нуждою и эксплуатируемых людей, и грозное обличение богатеев, мироедов, жестоких правителей, душегубцев, ханжей, лицемеров, неправедных судей, и гневное проклятие предателям как самым омерзительным выродкам рода человеческого, и горячая пропаганда веры в близкое наступление светлого будущего.
Либерально-народническая критика заявляла, что в последние годы своей литературной деятельности Салтыков склонялся к идее религиозного смирения и всепрощения, и при этом обычно ссылалась на слова Христа эксплуататорам из сказки «Христова ночь» (см. с. 176–177). Однако в этих словах нет ничего, что свидетельствовало бы в пользу гипотезы о проповеди смирения и всепрощения и противоречило бы высказанной в сказке идее преобразования человеческого общества. Салтыков отдавал себе полный отчет в том, что источник социальных бедствий, охвативших миллионы людей, заключается не в злой воле отдельных лиц, а в общем порядке вещей. Именно этот смысл и выражен в словах, относящихся к характеристике мироедов: «Вы — люди века сего и духом века своего руководитесь». И отсюда неизбежно следовал вывод: не возлагать напрасных надежд на милость и перерождение мироедов, а бороться за полное искоренение мироедского «духа века».
Для обличения предательства Салтыков по-своему использовал в «Христовой ночи» евангельский миф об Иуде и «бродячий» легендарный сюжет об Агасфере, или Вечном жиде. Гневный моральный пафос этого обличения продиктован несомненно конкретно-исторической обстановкой 80-х гг., когда в связи с разгромом народовольческого движения и усилением общественно-политической реакции в стране факты предательства и отступничества стали обычным явлением.
252
Равнина еще цепенеет… — Пейзажная экспозиция сказки, точно воспроизводящая предвесеннюю ночь, вместе с тем символизирует бесправие задавленного грозной кабалой русского народа, пребывающего в глубоком безмолвии ночи. О художественном впечатлении, производимом этим пейзажем, Л. Ф. Пантелеев писал: «Раз я дал В. В. Верещагину (…) прочитать «Христову ночь». Ему, как художнику, особенно понравилось самое начало — картина природы, а маленький штрих — «на темном фоне ночи вырезались горящие шпили церквей», положительно привел его в восторг. — Вот никак не думал, что у сатирика была такая способность к художественному восприятию внешних явлений!» (Пантелеев Л. «Христова ночь» М. Е. Салтыкова (По воспоминаниям)
Солнце России. 1914, апрель. № 219. С. 8–9).