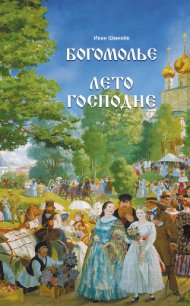Богомолье - Шмелев Иван Сергеевич (читать книги онлайн полные версии txt) 📗
— Ничего, трудится во славу Божию… такой ретивый, на досточке спит, ночью встает молиться, поклончики бьет.
Велит Трифонычу снести поклончик, хорошо его знает, как же:
— Земляки с Трифонычем мы, с-под Переяславля… у меня и торговлишка была, квасом вот торговал. А теперь вот какая у меня закваска… Господа Бога ради, для братии и всех православных христиан.
Такой он ласковый старичок, так он весь светится — словно уж он святой. Отец говорит:
— Душа радуется смотреть на вас… откуда вы такие беретесь?
А старичок смеется:
— А Господь затирает… такой уж квасок творит. Да только мы квасок-то неважный, ки-ислый-кислый… нам до первого сорту далеко.
Оба они смеются, а я не понимаю: какой квасок?.. Отец говорит:
— Плохие мы с тобой молельщики, на гостиницу пойдем лучше.
Несет меня мимо колокольни. Она звонит теперь легким, веселым перезвоном.
За Святыми Воротами все так же сидят и жалобно просят нищие. Извощики у гостиницы предлагают свезти в Вифанию, к Черниговской. Гостинник ласково нам пеняет:
— Что ж маловато помолились? Ну, ничего, с маленького не взыщет Преподобный. Сейчас я самоварчик скажу.
В золотых покоях душно и вязко пахнет согревшейся земляникой и чем-то таким милым… Отец дает мне в стаканчике черного сладкого вина с кипятком — кагорчика. Это вино — церковное, и его всегда пьют с просвиркой. От кагорчика пробегает во мне горячей струйкой, мне теперь хорошо, покойно, и я жадно глотаю душистую, теплую просфору. За окнами еще свет. Перезванивают в стемневшей Лавре; вздуваются занавески от ветерка.
Я просыпаюсь от голосов. Горит свечка. Отец и Горкин сидят за самоваром. Отец уговаривает:
— Чаю-то хоть бы выпил, затощаешь!
Горкин отказывается: причащаться завтра, никак нельзя. Рассказывает, как хорошо я шел, уж так-то он мной доволен — и не сказать. Говорит про тележку и про Аксенова: прямо чудо живое совершилось. Отец смеется:
— Все с вами чудеса!
Думал — завтра после ранней обедни выехать, пора горячая, дела не ждут, а теперь эта канитель — к Аксенову! Горкин упрашивает остаться, внимание надо бы оказать: уж шибко почтенный человек Аксенов, в обиду ему будет.
— Не знаю, не слыхал… Аксенов? — говорит отец. — Как же это тележка-то его к нам попала? Дедушку, говоришь, знал… Странно, никогда что-то не слыхал. И впрямь Преподобный словно привел.
Горкин вдумчиво говорит:
— Мы-то вот все так — все мы знаем! А выходит вон…
И начинает чего-то плакать. Отец спрашивает — да что такое?
— С радости, недостоин я… — в слезах, в платочек, срывающимся голосом говорит Горкин. — Исповедался у батюшки-отца Варнавы… Стал ему про свои грехи сказывать… и про тот мой грех, про Гришу-то… как понуждал его высоты-то не бояться. А он, светленький, поглядел на меня, поулыбался так хорошо… и говорит, ласково так: «Ах ты, голубь мой сизокрылый!..» Епитрахилькой накрыл и отпустил. «Почаще, — говорит, радовать приходи». Почаще приходи… Это к чему ж будет-то — почаще? Не в монастырь ли уж указание дает?..
— А понравился ты ему, вот Что… — говорит отец. — Да ты и без монастыря преподобный, только что в казакинчике.
Горкин отмахивается. Лицо у него светлое-светлое, как у отца квасника, и глаза в лучиках — такие у святых бывают. Если бы ему золотой венчик, — думаю я, — и поставить в окошко под куполок… и святую небесную дорогу?..
— А Федю нашего не благословил батюшка-отец Варнава в монастырь вступать. А как же, все хотел, в дороге нам открылся — хочу в монахи! Пошел у старца совета попросить, благословиться… а батюшка Варнава потрепал его по щеке и говорит: «Такой румянистый-краснощекой — да к нам, к просвирникам… баранки лучше пеки с детятками! когда, может, и меня, сынок, угостишь». И не благословил. «С детятками», — говорит! Значит, уж ему открыто. С детятками, — чего сказал-то. Ему и Домна-то Панферовна все смеялась, земляничкой молодку все угощал.
Беседуют они долго. Уходя, Горкин целует меня в маковку и шепчет на ухо:
— А ведь верно ты угадал, простил грех-то мой!
Он такой радостный, как на Светлый день. Пахнет от него банькой, ладаном, свечками. Говорит, что теперь все посмотрим, и к батюшке-отцу Варнаве благословиться сходим, и Фавор-гору в Вифании увидим, и сапожки Преподобного, и гробик. Понятно, и грешника поглядим, бревно-то в глазу… и Страшный суд… Я спрашиваю его про келейку.
— Картинку тебе куплю, вот такую… — показывает он на стенку, — и будет у тебя келейка. Осчастливил тебя папашенька, у Преподобного подышал с нами святостью.
Отец говорит — шутит словно и будто грустно:
— Горка ты, Горка! Помнишь… — делов-то пуды, а она — туды? Ну вот, из «пудов»-то и выдрался на денек.
— И хорошо, Господа надо благодарить. А кто чего знает… — говорит Горкин задумчиво, — все под Богом.
В комнате темно. Я не сплю Перебился сон, ворочаюсь с боку на бок. Перед глазами — Лавра, разноцветные огоньки. Должно быть, все уже спят, не хлопают двери в коридоре. Под окнами переступают по камню лошади, сонно встряхивают глухими бубенцами. Грустными переливами играют часы на колокольне. Занавески отдернуты, и в комнату повевает ветерком. Мне видно небо с мерцающими звездами Смотрю на них и, может быть, в первый раз в жизни думаю — что же там?.. Приподымаюсь на подушке, заглядываю ниже: светится огонек, совсем не такой, как звезды, — не мерцает. Это — в розовой башне на уголку, я знаю. Кто-нибудь молится? Смотрю на огонек, на зрезды и опять думаю, усыпающей уже мыслью — кто там?..
У Троицы
Слышится мне впросонках прыгающий трезвон, будто звонят на Пасхе. Открываю глаза — и вижу зеленую картинку: елки и келейки, и Преподобный Сергий, в золотом венчике, подает толстому медведю хлебец. У Троицы я, и это Троица так звонит, и оттого такой свет от неба, радостно-голубой и чистый Утренний ветерок колышет занавеску, и вижу я розовую башню с зеленым верхом. Вся она в солнце, слепит окошками.
— Проспал обедню-то, — говорит Горкин из другой комнаты, — а я уж и приобщался, поздравь меня!
— Душе на спасение! — кричу я.
Он подходит, целует меня и поправляет:
— Телу на здравие, душе на спасение — вот как надо.
Он в крахмальной рубашке и в жилетке с серебряной цепочкой, такой парадный. Пахнет от него праздником — кагорчиком, просвиркой и особенным мылом, из какой-то «травы-зари», архиерейским, которым он умывается только в Пасху и в Рождество, — кто-то ему принес с Афона. Я спрашиваю:
— Ты зарей умылся?
— А как же, — говорит, — я нонче приобщался, великой день.
Говорит — в Лавру сейчас пойдем, папашенька вот вернется: Кавказку пошел взглянуть; молебен отслужим Преподобному, позднюю отстоим, а там папашенька к Аксенову побывает — и в Москву поскачет, а мы при себе останемся — поглядим все, не торопясь. Рассказывает мне, как ходили к Черниговской, к утрени поспели, по зорьке три версты прошли — и не видали, а служба была подземная, в припещерной церкви, и служил сам батюшка-отец Варнава.
— Сказал батюшке про тебя… хороший, мол, богомольщик ты, дотошный до святости. «Приведи его, — говорит, — погляжу». Не скажет понапрасну… душеньку, может, твою чует. Да опять мне. «Непременно приведи!» Вот как.
Я рад, и немного страшно, что чует душеньку. Спрашиваю — он святой?
— Как те сказать… Святой — это после кончины открывается. Начнут стекаться, панихидки служат, и пойдет в народе разговор, что, мол, святой, чудеса-исцеления пойдут. Алхеереи и скажут: «Много народу почитает, надо образ ему писать и службу править». Ну, мощи и открываются, для прославления. Так народ тоже не заставишь за святого-то почитать, а когда сами уж учувствуют, по совести. Вот Сергий Преподобный… весь народ его почитает, Угодник Божий! Стало быть, заслужил, прознал хорошо народ, сам прознал, совесть ему сказала А батюшка Варнава — подвижник-прозорливец, всех утешает… не такой, как мы, грешные, а превысокой жизни. Стечение-то к нему какое… Завтра вот и пойдем, за радостью.