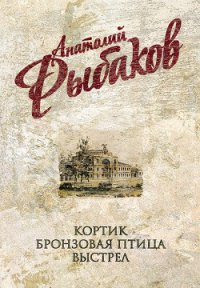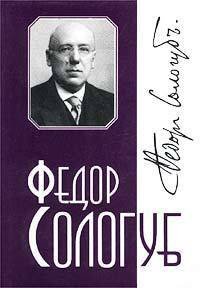Капли крови (Навьи чары) - Сологуб Федор Кузьмич "Тетерников" (лучшие книги .TXT) 📗
Как же противиться темным зовам? Успокоенное сердце, когда же ты совсем забудешь и навсегда земные томления?
Вот вышел Гриша из-за легкой, расторгнутой легко ограды. Вдохнул в себя резкий, но сладкий внешний воздух. Шел тихо по дороге узкой и пыльной. Легкие за ним ложились следы, и белая в тихом движении одежда была ясна среди неяркой зелени и серой пыли, - одна ясна. Перед ним легкая, еле видимая, возносилась белая, неживая, ясная луна, бессильная очаровать скучные земные просторы.
Начинался город серый, тусклый, скучный, какой-то разваленный и бессильный, - грязные задворки, чахлые огороды, ломаные плетни, бани и сараи, шершавыми ежами торчащие невесело и некрасиво. На одном огороде у плетня стоял Егорка, одиннадцатилетний мещанкин сын. Что было красным ситцем, стало на нем рваною рубахою, а лицо - ангел в коричневой маске, покрытой пятнами грязи и пыли. Крылья бы легким ногам, - но что же может земля? только пылью и глиною приникнет к легким ногам.
Егорка вышел поиграть. Он ждал товарищей. Да почему-то нет их. Он остался вдруг один, заслушался чего-то и вдруг всмотрелся. За изгородью стоял незнакомый тихий мальчик, и смотрел на Егорку, такой весь белый. Дивился Егорка, спросил:
- Ты откуда?
- Ты не знаешь, - сказал Гриша.
- Ишь ты. Поди ж ты! - весело крикнул Егорка. - А может и знаю. Ты скажи.
- Хочешь узнать? - спросил Гриша, улыбаясь.
Спокойная улыбка, - хотел было Егорка язык высунуть, да передумал почему-то. Разговорились. Зашептали.
Все затихло вокруг, даже не вслушивалось, - словно в иной отошли мир два маленькие, за тонкую завесу, которой никому не разорвать. Так неподвижно стояли березы, - успокоили их тайным наговором три отпадшие силы. И опять спросил Гриша:
- Правда, хочешь?
- Ей-Богу хочу, вот те крест, - живою скороговоркою сказал Егорка, и перекрестился мелькающим вкривь и вкось движением сжатых в щепотку грязных маленьких пальцев.
- Иди за мною, - сказал Гриша.
Легко повернулся и пошел домой, не оглядываясь на скудные предметы серой жизни. Пошел Егорка за белым мальчиком. Тихо шел, дивясь на того другого. Думал что-то. Спросил:
-- А ты, часом, не ангел Божий? Что белый-то ты такой?
Улыбнулся на эти слова тихий мальчик. Сказал, - вздохнул легонько:
- Нет, я - человек.
- Да неужто? Просто мальчишка?
- Такой же, как и ты, - почти совсем такой же.
- Чистюля-то такой? Поди, семь раз на дню яичным мылом моешься? Ишь, босой шлепаешь, ни как и я, а загар к тебе не липнет, только пылькой ноги заволок.
Пахло откуда-то тихою фиалкою, в был в воздухе сухой запах пыли, и надоедливо носился сладковато-горький дух, гарь лесного пожара.
Мальчики миновали скучное однообразие полей и дорог, и пошли в сумрачной тишине леса. Раскрывались поляны и рощи, ручьи звенели в тихих берегах. Мальчики шли по дорожкам и тропинками, где сладкие росы приникали к ногам. И все окрест преображалось дивно перед Егоркиными глазами, отпадая от ярого буйства злой, но все-таки серой и плоской жизни. Длилось, убегая и сгорая, время, свитое в сладостное кружение милых мгновений, - и казалось Егорке, что забрел он в неведомые страны. Спал где-то ночью, - радостный просыпался, разбуженный влажными щебетаниями птиц, отрясающих раннюю росу с гибких ветвей, - играл с веселыми мальчиками, - музыку слушал.
Иногда белый мальчик Гриша отходил от Егорки. Потом опять появлялся. Егорка заметил, что Гриша держится отдельно от других, веселых, шумных детей, - не играет с ними, говорит мало, не то, что боится или сторонится, а как-то само собою выходит, что он отдельно, один, светлый и грустный.
Вот Егорка и Гриша остались одни, пошли вдвоем. Был лесок, весь сквозь пронизанный светом. И все сгущался лес.
Стояли два дерева, очень прямые и высокие. Между ними - бронзовый прут, на пруте, на кольцах, алая шелковая занавеска. Легкий ветер колыхал ее тонкие складки. Тихий мальчик, синеглазый Гриша, отдернул занавеску. С легким, свистящим шелестом свились ее алые складки, словно сгорая. Открылась лесная даль, вся пронизанная странно-ясным светом, как обещание преображенной земли. Гриша сказал:
- Иди, Егорушка, - там хорошо.
Егорка всматривался в ясные лесные дали, - страх приник к его сердцу, и тихо сказал Егорка:
- Боюсь.
- Чего ты боишься, глупенький? - ласково спросил Гриша.
-- Не знаю. Чего-то боязно, - робко говорил Егорка.
Опечалился Гриша. Тихо вздохнул. Сказал:
- Ну, иди себе домой, коли у нас боишься.
Егорка вспомнил дом, мать, город. Не очень-то весело жилось дома Егорке, - нищета, колотушки. Вдруг бросился Егорка к тихому Грише, ухватился за его легкие, прохладные руки, завопил:
- Не гони, миленький, не гони ты меня от себя!
- Да разве я тебя гоню! - возразил Гриша. - Ты сам не хочешь.
Егорка стал на колени и, целуя легкие Гришины ноги, шептал:
- Вам, государям ангелам, от поту лица своего молюсь.
- Иди же за мною, - сказал Гриша.
Легкие руки легли на Егоркины плечи, и подняли его от тихих трав. Егорка послушно пошел за Гришею, к синему раю его тихих глаз. Перед ним открылась успокоенная долина, и на ней тихие дети. Сладкая роса падала на Егоркины ноги, и радостны были ее поцелуи. А тихие дети окружили Егорку и Гришу, в широкий стали круг, и увлекли их в легком круговом движении хоровода.
- Государи мои ангелы, - вскрикивал Егорка, кружась и ликуя, - личики ваши светленькие, оченьки ваши ясненькие, рученьки ваши беленькие, ноженьки ваши легонькие! Ништо я на земле, ништо я в раю? Голубчики, братики и сестрицы, где же ваши крылышки?
Чей-то близкий, сладко-звенящий голос отвечал ему:
- Ты на земле, не в раю, а крыльев нам не надобно, мы летим и безкрылые.
Увлекли, чаровали, ласкали. Показали ему все лесные дива под пенечками, под кусточками, под сухими листочками, - нежитей лесных маленьких с голосочками шелестиниыми, с волосочками паутинными, - пряменьких и горбатеньких, - лесных старичков, - последышей и попутников, - зоев пересмешников в кафтанах зелененьких, - полуночников и полуденников, черных и серых, - жутиков-шутиков с цепкими лапками, - невиданных птиц и зверей, все, чего нет в дневном, земном, темном мире.
Загостился Егорка у тихих детей. Не заметил, как целая неделя прошла, с пятницы до пятницы. И вдруг встосковался по матери. Точно зов ее услышал ночью, и проснулся тревожный, и звал: