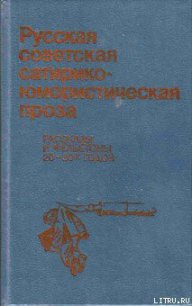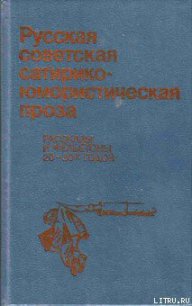Колдовской цветок (Фантастика Серебряного века. Том IX) - Шишков Вячеслав Яковлевич (книги txt) 📗
Руками и ногами такое выделывает, что купец инда вспотел весь, так его забрало.
А Сидень-посидень:
— Сижу-у — гляжу-у!..
— Убрать его отсюда! — заревел купец. — Что он шутит?
Все попритихли, — стоят — не знают, что делать.
— Что стоите — боитесь, что ль?
Подошел купец к посидню и взял его за бороду.
Все так и ахнули.
А посидень все свое:
— Сижу-у — гляжу-у!..
— Ты у меня сейчас поглядишь, — побагровел купец, — дам я тебе выволочку!
И давай посидня за бороду трясти.
— Ну, замолчишь?
— Сижу-у — гляжу-у!..
— Ах ты пес, так на ж тебе, старый хрыч!
Размахнулся купец, а не пришлось ему посидня ударить: повисла рука, что плеть.
Хотел было ее купец левой рукой пощупать — и с той то же.
— Каменею, — кричит, — ах, каменею!
И взаправду, стал он серым, повалился на пол. Глядят все: что за диво? Вместо купца — лежит похожий на человека камень серый.
Поняли все, — что поделом наказал купца посидень. Выволокли камень наружу, да с горы в реку!
Вернулись потом в избу, видят: ходит посидень.
— Встал дед. Вот чудеса-то!..
— Дождался, кого надо, пора и встать! — И засмеялся посидень, с лица посветлел.
Александр Рославлев
АНЧУТКА
(Сказка)
Днем Анчутка по щелям прятался, а ночью вылезал.
Чего только Анчутка ни выдумывал, как только Анчутка ни проказил, а снились его потехи пьяным мужикам да срамным бабам.
Жил на деревне Антон, божий старец, такой добрый, мухи не обидит.
И так и сяк к нему Анчутка подлизывался, напускал на него дурные сны, а старец спал, как младенец, и ничего не кроме серебряных ангельских крыльев да голубых Господних воздухов.
Заболел тяжело старец, пришло ему время помирать…
«Вот, — думает Анчутка, — когда ты — мой-то!»
Глянула ночь в окна, черная со звездами, золотыми гвоздями в небе. Вылез Анчутка из щели и, закидывая за плечи тонкие, длинные скользкие ноги, побежал к старцу.
Шмыгнул под дверь в избу, скрутился жгутиком, прыгнул к старцу на лавку и лег в головах. Лежит, усами пошевеливает, глазами позыркивает — напускает на старца грешные сны.
А старец-то не спал, только глаза у него были закрыты — так лежал, к смертному часу готовился, о жизни своей думы благочестивые думал.
Услыхал он, как Анчутка на постель сиганул, и запало ему на мысль поймать паскудника, чтобы он сонный покой не смущал, грешных снов не творил.
«Ох, испить бы», — говорит, словно во сне, старец.
Услыхал Анчутка — сейчас к рукомойнику, дунул на него — обернул рукомойник четвертью, а вместо воды — водка — и к старцу.
— На, — говорит, — выпей, родимый, — а сам обернулся дебелой бабой — кабацкой сидельщицей.
«Хитер ты, — думает старец. — Вина я не пью, водицы бы…»
— Это-то вода — какая водка? Хлебни-ка…
— Ан нет, — дух от нее нехороший, винный дух..
— А ты хлебни, дедушка!
— Ах ты такой, сякой, — поднялся дед, схватил Анчутку — бабу дебелую за руку и хочет крестным знаменьем в прах обратить.
Пропала баба — а заместо нее — мышь.
Держит ее старец в руке.
— Попался! — говорит.
А Анчутка плачется, таково жалобно просит: «Что хочешь, делай со мной — только не крести!»
— Ладно! Лезь в четвертную.
— Это не четвертная, а рукомойник!
— Все одно, лезь!
Сиганул Анчутка в рукомойник.
— Так-то, а теперича сиди здесь до скончания света! — перекрестил старик рукомойник.
Да слаб был, не удержал в руке — упал рукомойник на пол и разбился.
Завизжал Анчутка, закорчился. Крест всего его спалил.
— Ох-хо-хо! — простонал старец и помер.
…А Анчутка скорее из избы старца в соседнюю. Забился в первую попавшуюся щель и стал ожоги залечивать. Целых сорок дней сидел, пока не зажили.
Александр Рославлев
КОЗЛИНЫЕ СКАЗКИ
В той ли дальней земле, где сидят на царстве Гога да Магога — железные носы; за тем ли тыном из трех веретень Дурищи-Бабищи, Латефы-Манефы, что сама себе пятки обглодала меж рудых песков, по точеным камешкам бежит речка «Смородина», глубокая-преглубокая.
Ходит у речки рыжий козел, бороду мочит, броду ищет.
Выплывают водяницы на козла посмотреть, козлиных сказок послушать — тело девичье тонко, да гибко, что ивовый прут, а рыбий хвост серебром отливает:
— Козел-козлище, метла бородище, а хочешь, скажем, где мелко?
Уставится на них Козел, а вода с бороды кап… кап… кап…
— Слышь, аль нет, хочешь, скажем, где мелко?
И смеются, словно их кто щекочет.
— А где?
— То-то, где. Расскажи наперед сказку — покажем.
— Знаю я вас. Покажете, как намедни.
— Вот те, черт, покажем.
Сядет Козел по-собачьи, на задние лапы, брюхо копытом почешет и начнет сказывать.
Взявшись за руки, подплывут водяницы к самому бережку и слушают — глаза большие, зеленей осоки и мутные.
Каких только Козел сказок не знает, и так то у него все складно выходит, а присказки, — ох, и чудные, со смеху помереть.
Визг, брызг на смородине, кулики да утки в подоблачье, а рыба-рыбешка в тину на дно.
Кончит Козел сказку и спрашивает по уговору:
— Показывайте теперь, где мелко.
— А здесь близко, беги за нами, не отставай.
Плеснут хвостами и поплывут, а плавают-то быстро, еле-еле Козлу угнаться. Устанет Козел, глаза вылупит.
— Ох, заморился. Далече еще?
— Здесь, Козлище, здесь, бородища.
А сами только шеями вертят, да пузыри пускают. Остановится Козел, чуть с ног не валится.
— У, чтоб, вас, проклятые. Нет моей моченьки.
— Зря бранишься, у брода стоишь.
Только Козел с берега ступит, схватят они его за бороду, да все разом как дернут.
Он-то упирается, головой крутит, а им потеха. Искупают Козла и под воду.
Выскочит Козел на берег сам не свой и опять броду искать, а где на «Смородине» брод, одни омуты.
Сидит Латефа-Манефа на печи, веником дым разгоняет, в трубе ворона гнездо свила, — влезть бы на крышу, да трубу-то вычистить, — Латефе-Манефе невдомек, такая дурища.
— И с чего это, — думает, мне так глазыньки ест?
Слезы, что горох из мешка, а на догадку ума нет.
Вытопится печь, станет Латефа-Манефа хлебы сажать, — не тем концом лопату сует. Упрется лопата, хлебу дальше шестка ходу-то и нет, а Латефа-Манефа стоит сокрушается:
— Мала — печка-то.
Голова у Латефы-Манефы с пивную корчагу, да со сквозниной, и нет в ней ничего, окромя копоти.
Из-за долгих волос всклокоченных, в грязи валеных, Латефе-Манефе свету не видать.
Ходит Латефа-Манефа раскорячившись, брюхо волоком тащит, носом землю роет.
Позвал раз черт Латефу-Манефу в гости.
Собралась бабища — сборы-то у нее недолгие. Лапти на ухо повесила, да и пошла.
Идет луговиной скошенной — колко; ельничком да березничком — дерко; стежкою болотной — мокро.
Ей бы лапти надеть, а она села на станежник [62] и давай пятки грызть. Грызла, грызла, до кости догрызла и пришла к черту без пяток.
— Не способно, — говорит, к тебе идти. Знала бы, не пришла.
А черт выколотил трубку о копыто, когтем выскоблил и смеется:
— А ты бы на левое ухо лапти-то повесила. Живо бы дошла.
— Ишь ты. Кабы знать-то…
Стал черт Латефу-Манефу потчевать, поставил перед ней миску с петушиными гребешками. Самое это у чертей сладкое кушанье. Гребешки-то от тех черных петухов, которых при колдовании режут.