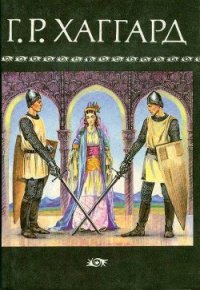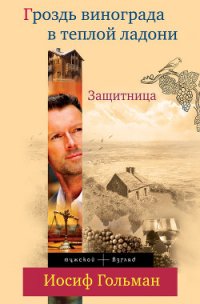Железный доктор (Собрание сочинений. Т. I) - Эльснер Анатолий Оттович (читать книги онлайн полностью .TXT) 📗
Прошло, может быть, минут десять или двадцать, не знаю — я оставался как бы в оцепенении. Шаги, раздавшиеся вокруг, вывели меня из этого состояния. «Не болен ли я и в самом деле, — подумал я, вспоминая слова Гаратова. — И что подумают обо мне эти!..»
— Что с вами?
— Ровно ничего, — ответил я одному из своих коллег. Самолюбие и страх показаться нервнобольным мгновенно зажгли во мне прежнюю смелость.
— Вы бледны, очень бледны.
Я выпрямился и поднял голову, но весь вздрагивал, и я думаю, что в это время казался странным и страшным. Меня снова охватило прежнее боевое настроение, но нервы мои, казалось, были натянуты, как тончайшие струны, от малейшего движения которых я весь содрогался. Я ответил, что совершенно спокоен.
— Бывают минуты с самыми сильными людьми, когда твердость их покидает. Это мертвое тело — прекрасно. Хорошенькая была девочка. Смотреть на нее долго, пожалуй, на вас могло повлиять…
— Что?! — воскликнул я резко и с насмешкой.
— Красота мертвой девушки могла повлиять…
— Я вам докажу сейчас противное и вы увидите, насколько я склонен к чувствительности. Однако, не мешайте, господа. Самое лучшее, если я один останусь; мне никого не надо.
Все без исключения ушли и маленький фельдшер, подавший мне скальпель — последним. Сжимая сталь в руке, я наклонился к трупу.
С наклоненным корпусом, с рукой, судорожно сжимающей страшный нож, острый конец которого прикасался к телу и дрожал, я стоял в каком-то странном оцепенении. Мертвое тело для меня положительно превращалось во что-то жалкое, чудесное и безгранично-грустное. С этим бредом ума моего я не мог справиться, и мне казалось, что как только я погружу в тело нож, оно содрогнется, как живое. «О, Кандинский, ты уничтожен и где твоя воля — гордость твоя! Попробуй, погрузи скальпель и увидишь, как он войдет в застывшую, липкую кровь — труп и ничего больше».
Любопытство знать, так ли это, терзало меня, и в момент, когда во мне как бы рассмеялось что-то при мысли, что предо мной раскроется сейчас обычная отвратительная картина внутренностей, оно двинуло мою руку и я не заметил, как скальпель глубоко погрузился в тело. Я приостановился и среди страха, радуясь победе над самим собой, взглянул в лицо мертвой. То, что я увидел, было ужасно и непостижимо: углы застывших губ ее дрогнули и опустились вниз с невыразимой болью и тоской, выдвигая еще резче белую полоску зубов, и в этот момент мне послышался едва уловимый крик боли внутри нее. «Галлюцинация слуха и зрения — обыкновенная штука», — подумал я сейчас же, но рассеять охвативший меня ужас мне не удалось: он овладел мной, так что кровь, казалось, остановилась в жилах моих и рука моя, с погруженным в тело ножом, задрожала. Однако же, я не бросился прочь от трупа; сила более могущественная, нежели страх, удержала меня на прежнем месте: может быть, это было тайное желание испить чашу ужаса до дна.
И я долго смотрел ей в лицо. Губы ее чуть заметно двигались, неуловимо, но с удручающей горечью и как бы со страданием, так что, казалось, она сейчас вскрикнет от боли. И вдруг мне послышались звуки плача, тоненькие и жалобные, как плач младенца. «Младенец плачет!.. но он на дне реки… Странно, странно! Я с ума схожу и Гаратов прав, конечно». И в то время, как в моем уме кружились эти мысли и рисовался кровавый ребенок, углы губ на лице трупа опустились еще ниже и затрепетали в нервном смехе. Теперь для меня стало ясно, что я с ума сошел и галлюцинирую, как сумасшедший, и это подняло во мне внезапный порыв злобы, который, как вихрь, сорвав мачты с корабля, сломал мою волю и все перепутал в душе моей. В чувстве озлобления и отчаяния, не отдавая себе отчета, что делаю и наклонившись низко над трупом, чтобы не видеть его лица, я два раза повернул свое орудие в холодном теле, не так, как это делает оператор, а как разбойник. Смутно сознавая, что я делаю что-то ужасное, я освирепел, озверел; я боялся, смертельно боялся мертвой, боялся снова услышать этот вопль и мной все более овладевали ярость и ужас, не поддающиеся описанию. Полный вздорной мыслью умертвить ее вторично, чтобы только не видеть ужасного движения ее уст и не слышать плача, который вселял в меня безумие, я стал изрезывать труп глубокими бороздами, как обезумевший убийца свою жертву. В этом состоянии я уже не помнил, что я доктор и что передо мной бледное мертвое тело; мне казалось, что это нечто живое, враждебное мне, что издевается надо мной и что непременно надо уничтожить. Странно, что во все эти минуты мне казалось, что я не один, а окружен всеми моими жертвами-пациентами, которые насмешливо кивали мне головами и шептали: «Вперед, очень хорошо… так, так, ты ее прекрасно зарезал и теперь она не заплачет и не улыбнется. Славно, Кандинский!.. Теперь осмотри внутренности этого тела и уверь себя, что ты прав, что убил нас… Красное, безобразное, ужасное — анатомическая машина, объясняющая человека и снимающая с тебя всякую ответственность за убийство нас».
Безобразные мысли теснились в голове моей, мешаясь с моими прежними идеалами доктора Кандинского, но последние мне казались жалкими и дикими.
«Ах, Кандинский, ты зарезал ее, несомненно зарезал, и она, конечно, больше не улыбнется». Я остановился, повинуясь этому голосу во мне, насмешливому и страшному, звучащему, как мое второе «я». С неудержимым любопытством, с нервной силой сжимая сталь в руке, как это делает разбойник, готовый снова вонзить ее в тело своей жертвы при первом ее движении, я взглянул в лицо трупа и с нервным содроганием всего тела стал выпрямляться, роняя нож.
Мертвая Джели смотрела на меня, смотрела, как живая, расширив большие ясные глаза с невыразимой печалью, ужасом и укором. Ужас обдал меня могильным холодом и на голове моей зашевелились волосы: я чувствовал, что к ним как бы слегка прикоснулась чья-то воздушная рука.
Она на меня смотрела, может быть, из-за могилы, но она несомненно смотрела на меня. Лучи ее глаз доходили до моих собственных глаз, как лучи заката, и все это было необъяснимо странно и ужасно; ужасны для меня были эти небесно-кроткие невинные глаза, потому что я видел изрезанное мной в диком неистовстве тело с кровавыми внутренностями его — всю анатомическую машину, вывороченную кровавой массой своей — и видел жизнь и яркий свет в глазах ее. С иного мира смотрела на меня душа ее и это опрокидывало все мои прежние мысли. Я стоял и трепетал, холод гробов пронизывал все существо мое и магическая сила приковывала мои взоры к ее глазам, так что я не мог шевельнуться. Но и здесь, посреди смертельного ужаса, во мне все яснее начинали слышаться отзвуки мыслей прежнего страшного доктора: «Ты с ума сошел, это очевидно, но постарайся найти объяснение непонятным явлениям; ты — доктор, человек глубокомыслящий, с гордой холодной волей. Очевидно, в расстройство пришел исключительно твой собственный психический мир, но у тебя есть воля — холодное, могучее божество в этом мире: восстанови нормальный ход в машине твоей и постарайся понять мнимый феномен. Тебе кажется, что она смотрит, несомненно кажется, да еще с горнего мира… Перемени место и нагнись к ней».
Я шагнул и нагнулся к лицу трупа, но от страшного усилия, которое я сделал над собой, мне показалось, что моя поясница сломилась, как палка. Запах разлагающегося трупа пахнул мне в лицо, как из-под раскрывшейся крышки гроба — знакомый запах и нисколько не страшный мне, и я смотрел в лицо с удивлением и радостью победителя: передо мной было обыкновенное лицо трупа.
«Воля — бог, и он во мне, следовательно, я — бог, расторгнувший цепи чувств. Разрушать жизни, согласно начертаниям холодного ума — таков мой план — и жить удовольствием сознания, что я один стою выше своей человеческой природы».
Мысли эти возносили меня, как на крыльях. Воображению моему представились огромные толпы мертвецов — жертвы будущих разрушений, и постепенно меня снова стал охватывать испуг пред самим собой. Мне стало казаться, что нас два, и вот мой двойник Кандинский начал обрисовываться в страшных чертах небывалого убийцы и я снова ужаснулся. Я понял, что во мне было нечто слабое, человеческое, мешающее мне осуществить свой страшный идеал.