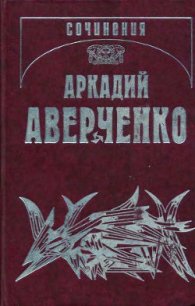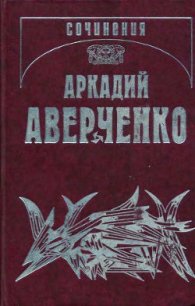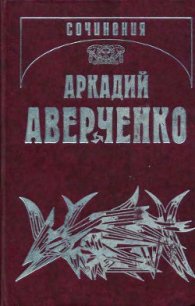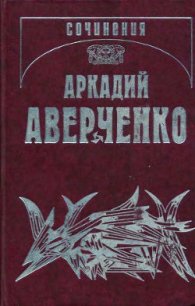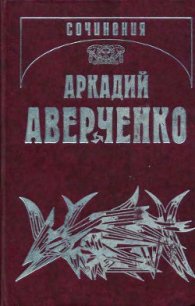Том 2. Круги по воде - Аверченко Аркадий Тимофеевич (книги бесплатно .TXT) 📗
Подошли в первой зале к монументальному сторожу и спросили:
— А где тут знамена?
Он оглядел нас и стал со вкусом медленно чеканить: — Знамена есть налево; знамена есть направо; знамена есть впереди; знамена есть в нижнем этаже; знамена есть в верхнем этаже; знамена есть в среднем этаже. Какие именно знамена хотели бы вы видеть?
В одной немецкой гостинице я наблюдал следующий факт: какой-то человек постучал в дверь первого номера и сказал:
— Очень прошу извинения — не здесь ли находится в гостях господин Шульц; он мне нужен по одному мануфактурному делу.
После этого он постучал во второй номер:
— Очень прошу извинения — не здесь ли находится в гостях господин Шульц; он мне нужен по одному мануфактурному делу. Я уже спрашивал в первом номере — его нет.
То же самое он повторил в третьем, четвертом и пятом номере. В шестом уже добавлял: я искал господина Шульца в первом номере, я искал господина Шульца во втором номере, в третьем и в четвертом, я искал господина Шульца также в пятом — его там не было. Нет ли у вас господина Шульца, необходимого мне по мануфактурному делу?
У нас в России после этого монолога открылась бы дверь третьего или четвертого номера и сапог полетел бы в голову незадачливого мануфактурщика.
А в немецкой гостинице голоса отвечали из-за дверей:
— Я очень сожалею, но у меня в пятом номере нет в гостях господина Шульца, необходимого вам по мануфактурному делу; но нет ли господина Шульца в номере шестом?
Все немецкие двери украшены надписями: «выход», будто кто-нибудь без этой надписи воспользуется дверью, как машинкой для раздавливания орехов, или, уцепившись за дверную ручку, будет кататься взад и вперед. Надписи, украшающие стены уборных в немецких вагонах, — это целая литература: «просят нажать кнопку», «просят бросать сюда ненужную бумагу», под стаканом надпись «стакан», под графином «графин», «благоволите повернуть ручку», в «эту пепельницу покорнейше просят бросать окурки сигар, а также других табачных изделий».
Одним словом, всюду — битте-дритте, как говорил Крысаков.
Существует и немецкая любовь к изящному: в Берлине большинство автомобилей раскрашено разноцветными розочками; всякая вещь, которая поддается позолоте — золотится; не поддается позолоте — ее украсят розочкой…
Наряд немецкой женщины — это целая симфония. На голове зеленая шляпа с желтым пером и красной розочкой. Юбка голубая, обшита внизу оранжевыми полосками. Только кофточка отличается скромным фиолетовым цветом, но одета она так, что грудь делается плоской, а спина пузырится, как волдырь на обваренном месте; башмаки хотя из грубой кожи, но зато большие; чулки прекрасной верблюжьей шерсти.
Из этих элементов составляется вся немецкая женщина, из женщин — толпа на главных улицах, толпа дает физиономию всему Берлину, а Берлин — Германии.
Немецкий мужчина — это вторая сторона вышеописанной физиономии. Средний немецкий мужчина не имеет ни страданий, ни сомнений, ни очень возвышенных, ни очень низменных чувств.
Он любит прежде всего себя, за то, что никогда не доставлял сам себе ненужных страданий; потом семью, потому что дети не огорчают его, а жена не изменяет, по недостатку темперамента или поклонников; наконец, любит родину, потому что она заботится о нем, пишет на каждых дверях «выход» и устраивает удобные перенумерованные желобки для сигар у телеграфных окошечек.
Он спокоен за себя, за семью и за родину.
Спокойствие дает ему возможность веселиться, и он действительно каждый день веселится, но не утром или днем — когда нужно устраивать свое благосостояние, — а вечером.
Как он веселится?
За столом в любимой пивной собирается каждый день одна и та же компания: Фриц Штумпе, Яков Миллер, Иоганн Миткраут и Адольф Гроссшток.
Целый вечер взрывы хохота несутся со стороны стола, занятого веселыми собутыльниками.
— Эге, — думает зритель в отдалении, — наверное, что-нибудь забавное рассказывают. Прислушаюсь-ка…
Прислушивается…
— Герр Штумпе! Отчего вы сегодня молчите? Не бьет ли вас ваша жена?
Взрыв гомерического хохота следует за этими словами.
— Ох, — говорит Иоганн Миткраут, задыхаясь от смеха. — Вечно этот Миллер придумает какую-нибудь штуку. А? «Не бьет ли», говорит, «вас ваша жена?» Ха-ха-ха!
— Хо-хо-хо!
Всеобщий восторг пьянит толстую голову Миллера; надо сказать что-нибудь еще, чтобы закрепить за собой славу присяжного весельчака и юмориста.
— Герр Штумпе! Говорят, что вы уже целый год не носите ваших сбережений в ваш банк?
— Почему? — недоумевает простоватый Штумпе.
— Потому что весь ваш бюджет уходит на покупку ваших зонтиков, которые ломает о вашу спину ваша жена.
Будто скала обрушилась — такой хохот потрясает стены пивной.
— Хо-хо-хо! — стонет басом изнемогающий Гроссшток.
— Хи-хи-хи, — октавой выше заливается, нагнув к столу голову, совершенно измученный Миткраут.
— Хе-хе-хе!
— Хо-хо-хо!!
— Э, — думает Штумпе, — дай-ка и я что-нибудь отмочу. Тоже когда-то острили не хуже.
— Вы, герр Миллер, кажется, купили вашего нового мопса? — спрашивает Штумпе, обводя компанию взглядом, который ясно говорит: «слушайте, слушайте! Сейчас я выкину штуку еще позабористее».
— Да, герр Штумпе. Не хотите ли вы на нем покататься верхом? — подмигивает неистощимый Миллер, вызывая долгий хохот.
— Нет, герр Миллер. Но теперь нам опасно прийти в ваш дом есть ваш обед.
— Почему? — хором спрашивают все, затаив дыхание.
— Потому что вы можете угостить нас вашими сосисками из вашего мопса.
— Хо-хо-хо!!!
— Хи-хи!
— Хо-хо. Кххх… Рррр. Однако этот Штумпе тоже с язычком! Хо-хо… Так как вы говорите? «Колбаса из мопса?» Ну, и чудак же! Вам бы попробовать написать что-нибудь в «Lustige Blatter»…
Так они веселятся до двух часов ночи. Потом каждый платит за себя и все мирно возвращаются под теплое крылышко жены.
— Сегодня мы прямо помирали от хохоту, — говорит длинный Гроссшток, накрываясь периной и почесывая живот. — Этот чудила Штумпе такую штуку выкинул! «Накорми-ка нас, говорит, герр Миллер, собачьими колбасами». Все со смеху полопались.
Человек за бортом
Сейчас я буду писать о том, что наполовину испортило наше путешествие, о том, что повергло нас в чрезвычайное уныние и благодаря чему мы потеряли человека, который доставлял нам немало хороших веселых минут.
Одним словом — я расскажу об инциденте с Митей.
Митя, пожив несколько дней в Берлине, начал уже приобретать некоторый навык в языке и стал понемногу отставать от неряшливой привычки путать: «бутер» и «брудер», «шинкен» и «тринкен».
Уже лицо его приняло выражение некоторого превосходства над нами, а разговор — тон легкого снисхождения к нашим словам и шуткам.
Уже он, отправляясь куда-нибудь с Крысаковым и надев яркий галстук и старую панаму, пытался изредка принимать вид барина, путешествующего со слугой, так как шел он впереди, заложив руки в карманы и насвистывая марш, в то время как безропотный Крысаков, неся в одной руке ящик с красками, в другой — фотографический аппарат, скромно плелся сзади.
Мы не могли налюбоваться на него, когда он, проходя по Фридрихштрассе, бросал влюбленный взгляд на свое отражение, затем задевал плечом пробегавшую мимо горничную с покупками и говорил густым, как из пустой бочки, голосом:
— Пардон!
Горничная испуганно оглядывалась, а он пускал ей в след самый лучший излюбленный прием своего несложного донжуанства:
— Гиб мир эйн кусс.
И все-таки то, что случилось с Митей, было для нас совсем неожиданно. Постараюсь восстановить весь инцидент в полном объеме, как он выяснился потом из расспросов, справок и сопоставлений.
Прошло уже несколько дней после нашего приезда в Берлин.
Так как ясные дни были для нас очень дороги, то мы, выбрав одно туманное, дождливое утро, решили посвятить его Вертгейму. Кто из бывших в Берлине не знает этого колоссального сарая, этого апофеоза немецкой промышленности, этого живого памятника берлинской дешевизны, удобства и безвкусицы?