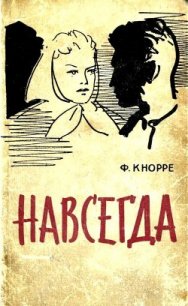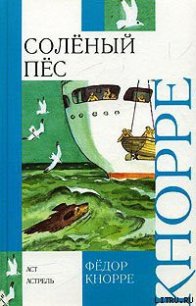Шорох сухих листьев - Кнорре Федор Федорович (прочитать книгу TXT) 📗
Рукам стало холодновато, и он посмотрел на них. Они лежали, большие, сделавшиеся от худобы узловатыми в суставах, поверх зеленого, как трава, одеяла. Надо бы их спрятать под одеяло, и он попробовал это сделать, но оказалось, что это не так-то легко. Из окошка подувал свежий сыроватый ветерок, руки мерзли, но двигаться им не хотелось. "Ну, ладно, потерпите немного, - сказал им Платонов, - соберемся с силами, спрячемся".
Все ярче делается свет в комнате, занавеска, собранная на шнурочке, заиграла от ветра и пошла легонько взлетать у него перед глазами подоконник приходился у самой постели, прямо у него над головой, и бледная полоска солнечного рассеянного света легла на одеяло, слабо вспыхнула и побледнела и вдруг стала расширяться и разгораться все ярче, еще раз замигала и налилась ослепительно-ярким светом так, что одеяло стало похоже на холмистый луг в солнечный день, поросший удивительно ровной и очень зеленой травкой шелковистых ворсинок.
Опять проехал автобус, замычала корова, и спокойно прогудели, должно быть встретясь на реке, два маленьких буксира, в доме запахло дымком, в сенях хлопнула дверь, и внизу, на берегу, всполошившись, загалдели гуси.
И после своего ночного, едва не состоявшегося путешествия Платонов с наслаждением вслушивается в эту мирную, будничную музыку.
Одно за другим начинают всплывать в голове разные недоделанные дела, огорчения, заботы, неприятности, сначала важные, потом и такие пустяковые, что ему вдруг делается смешно: когда человек после кораблекрушения из последних сил плывет к далекому берегу, он видит только недосягаемые волшебные огни, и вот доплыл чудом, отдышался и уже недоволен, ворчит, что ему плохо выгладили штаны, в которых он тонул!
На кухне давно уже стреляют лучинки - Казимира ставит самовар, звякают чашки - значит, накрывают на стол, стенные часы, так вызывающе-громко тикавшие ночью, теперь молча размахивают маятником, за общим фоном шума проснувшегося Посада их уже не слышно.
Вдруг снаружи кто-то потихоньку притронулся кончиками пальцев к распахнутой створке окошка и побарабанил ногтями по стеклу. Два - или три? - голоса зашептались под окном, и чьи-то легкие пальцы опять тихонько прострекотали по стеклу - ту-ту-ту.
Платонов глубоко вздохнул, набираясь сил, и протянул руку, чтобы отдернуть занавеску. Рука поднялась, покачнулась и, не достав до края, упала на одеяло.
Под окном шепотом Вика испуганно проговорила: "Спит!" - и тихонько зашипела. Рука со второго раза послушалась, откинула краешек занавески и, высунувшись наружу, легонько помахала, изображая бодрое приветствие, но было уже поздно: под окном никого не было. Вот до чего распустился. Ребята к нему приходили, а он не мог даже им знака подать вовремя, что не спит. Он еще раз поднял руку и стукнул в стекло. Ага, мог ведь, значит! Раскис. Досадно...
В сенях глухо стукнула обитая войлоком дверь, и он тотчас представил себе и эту дверь, и сени с полками, где стояла всякая старая чугунная и глиняная посуда, и бочонок с квашеной капустой, и даже большую черную ручку, высунувшуюся из прорванного для нее войлока, и белый, стертый посредине, высокий порог, и доску, которая при входе всегда пружинила, прогибаясь...
Потом он слышит, как мимо его двери ходят, сперва потихоньку, потом нарочно топая и покашливая, - значит, тетя Люся с Казимирой дожидаются его чай пить.
Не дождавшись, они стучатся к нему в дверь, он откликается слабо, и они входят, обе сразу, вдвоем, обеспокоенные каждая по-своему.
- Похоже, что я решил поваляться денек! - развязно объявляет Платонов и усмехается - ему действительно забавно смотреть на них. У тети Люси сразу делаются страдальческие глаза, а Казимира непреклонно выпрямляется и "берет себя в руки", хотя весьма сомнительно, бывают ли у нее моменты, когда она себя "не держит в руках".
- Понятно, лежите смирно, не смейте шевелиться! Сейчас я принесу! - и стремительно уходит.
Тетя Люся, страдальчески тиская руки, подходит ближе, озабоченно вглядываясь Платонову в лицо.
- Очень было плохо? Очень больно? - виновато шепчет она, и видно, что уже и ей самой больно от сочувствия. - Я знаю: очень, очень, очень!
Входит Казимира, в руке ее твердо зажата тарелка, на которой стоит большая рюмка какой-то травяной настойки мутно-зеленого цвета.
- Пейте, сейчас же, перед едой. Это совершенно новый состав!
- Пожалуйста, с удовольствием... что мне стоит... спасибо! - бормочет Платонов, принимая тарелку и с отвращением принюхиваясь к исходящему от рюмки запаху ромашки, валерьянки и, наверно, каких-то лопухов.
- Вот и пожалуйста! Пейте живо. А почему эти окна не открыты? Сию же минуту надо впустить как можно больше свежего воздуха.
Пока она, набросившись на окна, обеими руками расталкивает створки в разные стороны жестом энергичного милиционера, разнимающего двух драчунов, Платонов умоляюще показывает на рюмку и дотрагивается кончиками пальцев до груди.
Тетя Люся, испуганно глядя в спину Казимиры Войцеховны, воровато протягивает руку, самоотверженно опрокидывает рюмку себе в рот и быстро ставит обратно на тарелку.
- Брр! Ну и гадость! - фальшиво крякает Платонов.
- Выпили? И не умерли! - поучительно замечает Казимира, оборачиваясь. - Все мужчины изнежены и нетерпеливы. Поэтому они вечно пытаются приписать эти свойства женщинам... Впрочем, большинство женщин тоже изнежены и тоже нетерпеливы, это верно!
Немного погодя Платонову приносят в постель чай, а Казимира Войцеховна с кошелкой отправляется в магазин, и при этом у нее волевой и непреклонный вид, а тетя Люся с тряпкой в руке бродит по комнате, то вытирая пыль с книг, то перелистывая и перекладывая их с места на место. Считается, что таким образом она ухаживает за больным Платоновым, потому что, когда он здоров, он этого при себе никогда не допускает. Теперь же он все терпит, и его нисколько не раздражает, даже когда она, раскрыв журнал, забыв про уборку, надолго остается стоять посреди комнаты, опираясь на половую щетку, как на копье.
Платонов хмыкает, и она оборачивается.
- Вы похожи сейчас на часового у ворот замка!
Тетя Люся рассеянно моргает, долго обдумывая, что он сказал, потом с грустью качает головой:
- Нет... во мне нет ничего воинственного!
Она опять обращается к журналу, потом откладывает его, принимается подметать, очень медленно, задумчиво улыбаясь, склонив голову набок.
- Я постоянно об этом размышляю! - начинает она разговор, и щетка без толку елозит на одном и том же месте.
- Насчет букашек?
- Да, они меня так поражают! Я себе это все так живо представляю, как в мой организм прорвалась зловредная шайка этих мерзавцев. Вирусов! Чтоб меня сгубить. И они нахально принялись размножаться и мучить меня, и тут эти мои милые крохотные букашки - ну, я условно их так называю, - мои белые и красные и всякие там тельца кидаются в погоню, накидываются на негодяев и загрызают, загрызают! И некоторые, бедняжки, конечно, сами погибают! И в конце концов они меня спасают. Разве это не трогательно?.. Ну вот, вы смеетесь, я очень рада, если вас развлекла... На той неделе я себе порезала руку. И что же? Букашки сбежались такой толпой, что вся кожа кругом покраснела, и они навели порядок, заделали порез и долго еще там суетились и только на третий день, когда сделали свое дело, все разошлись по своим местам, так что ни красноты, ничего, - следа не осталось!
- Ай да букашки!
- Удивительные!.. Или я еще заметила: я засыпаю вечером, я крепко сплю. А кто-то во мне, значит, дежурит! Не все там ложатся спать. Чуть что, они меня разбудят, если кто-нибудь войдет в комнату или крикнет. Я все время о них думаю последнее время, слежу за их поведением и просто их уважаю!
- Правильно делаете, тетя Люся! Вы их сейчас хвалите, они слушают, и им приятно. Еще пуще будут стараться!
- Вы думаете - слушают? Едва ли! Хотя я нисколько бы не удивилась!
Оба, повернув головы, прислушались: в стекло раскрытого окошка снова кто-то мелко и быстро побарабанил ногтями - точно цыплята забегали на подносе. Платонов быстро протянул руку за занавеску и побарабанил в ответ, и сейчас же кто-то мягко, цепко ухватился за концы его пальцев - тоже только самыми кончиками пальцев, тонких и холодных, - и быстро пожал.