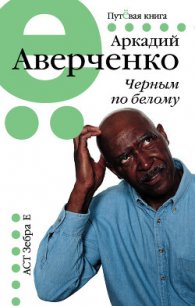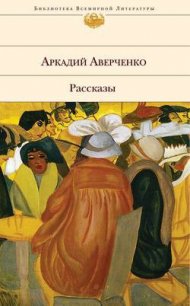Том 3. Чёрным по белому - Аверченко Аркадий Тимофеевич (книги хорошего качества .txt) 📗
— Неужели я даром проехалась? — скорбно прошептала посетительница. — Думала как, мечтала. Собралась, приехала, стратилась… На тебе! Скажите — ну, если не в ваш журнал, то куда их можно пристроить?
По скверной петербургской манере я обрадовался возможности сплавить ее с рук на руки и поэтому, не задумываясь, сказал:
— Я думаю, в газете вам будет легче пристроить эти стихи. Это, так сказать, газетная тема. Голос из провинции… Зайдите в «Вестник жизни» или «Ежедневное обозрение». Они нуждаются в материале и гм… того…
Она неторопливо свернула рукопись, с благодарностью пожала мне руку и направилась к дверям…
Вдруг вернулась и снова приблизилась ко мне, причем на губах ее сияла улыбка, а в глазах сверкали искорки:
— Вы можете себе представить, что сделается с этим вором, с этим негодяем, когда он увидит воздаяние себе по заслугам!.. О, тогда мы с сыном можем спокойно заснуть, потому что послужили не только себе, но и ряжскому обществу!..
Усевшись поудобнее в кресло, он осмотрел меня и, удовлетворенный, сказал:
— Вот вы какой!
— Да, — скромно улыбнулся я.
— Давно пишете?
— Четыре года.
— Ого! А я тоже думаю: дай-ка что-нибудь напишу!
— Написали? — полюбопытствовал я.
— Написал. Принес. Хочу у вас напечатать.
— Раньше писали?
— Нет. Другим была голова занята. А нынче с делами управился, жену в имение отослал, ну, знаете ли, скучно. Эх, думаю, попробую-ка что-нибудь написать. Вот написал и притащил — хе-хе! Печатайте новоявленного Байрона.
— Хорошо-с. Одну минутку… кончу корректуру и тогда к вашим услугам.
Это был длинноносый немолодой человек, в черном сюртуке и с бриллиантом на худом узловатом пальце.
Он осмотрел свои ногти и, улыбнувшись, сказал:
— А приятно, когда везет.
— Кому?
— Да вот, например, вам. Пишете, зарабатываете деньги, вас читают.
— Трудно писать, — рассеянно сказал я.
— Ну, как вам сказать. Я, например, сел, и у меня это как-то сразу вышло.
Я отодвинул неоконченную корректуру и сказал:
— Где ваша рукопись?
— Вот она. Условия: пятнадцать копеек строка. А следующие вещицы — по соглашению. За дебют можно и подешевле…
— Ладно. Ответ через две недели.
Я бросил косой взгляд на начало лежавшей передо мной рукописи и сказал:
— Кстати, нельзя писать: «Солнце сияло на закате небосклона».
— Ну, ничего, — добродушно усмехнулся он. — Исправите. Это первые шаги. Ну — я пойду. Не буду отнимать у себя и у вас драгоценное время.
Он вынул часы, взглянул на них и сказал с досадой:
— Вот анафемские! Опять стали.
— Испортились? — спросил я.
— Да. Давал чинить — ничего не выходит.
— Да, уж эти часовые мастера! Позвольте, я посмотрю их. Может быть, что-нибудь можно с ними сделать.
Он удивленно посмотрел на меня.
— А вы и часы можете починить?
— Отчего же… Пустяки!
Я взял протянутые им часы, открыл заднюю крышку и стал внимательно разглядывать сложную комбинацию колесиков и пружин.
— Ну-с… попробуем.
Я взял перочинный ножик и ковырнул механизм. Два колесика отскочили и упали на письменный стол.
— Ага! — удовлетворенно сказал я. — Ишь ты подлые.
Нащупав пальцем тонкую, как паутина, спираль, я подцепил ее ногтем и, размотав, вытащил. Заодно выпали и два каких-то молоточка, соединенных дужкой.
— Ну что? — спросил писатель, с недоумением следя за моей работой.
— Да что ж, — пожал я плечами, выковыривая из футляра последние остатки механизма. — Часы как часы. Тут столько всякого напутано, что сам черт не поймет.
Он вскочил, бросил растерянный взгляд на выпотрошенные часы и вскричал:
— Да вы-то сами… понимаете что-нибудь в часах?
— Как вам сказать… Скорей не понимаю, чем понимаю.
— И вы никогда не занимались часовым делом?
— Откровенно-то говоря — нет. Вот сейчас только… немножко.
Он заревел, собирая в опустевшие часы все свои колесики, пружины и молоточки:
— Так какого же дьявола, ни черта не смысля, вы беретесь не за свое дело?!
Заревел и я:
— А вы-то тоже! Какого вы дьявола взялись за литературу, ни черта в ней не смысля?! Что ж, по-вашему, починять часы труднее, чем написать хорошее литературное произведение?
Потом мы оба сразу остыли. Он засмеялся и сказал:
— Ну, черт с вами. Если эта моя вещица не подойдет — принесу другую.
— Ладно, — согласился я. — Если еще будут у вас часики, притащите и их. Может быть, мы оба в конце концов научимся…
Я не люблю и осуждаю тех авторов, у которых в несложном арсенале их творчества только и существует для создания гнетущего настроения два средства: «дождь плакал за окном холодными слезами» и «где-то вдали уныло завывала шарманка».
Некоторые писатели так и пробродили весь свой век по жизненному полю с этой шарманкой за плечами, упорно вертя ее ручку под обильными струями «плачущего за окном» дождя.
Если отобрать у такого писателя шарманку — он расплачется не хуже дождя, потому что без шарманки, уныло завывающей вдали, настроение рассказа исчезает, фонтан творчества иссякает и писателю приходит конец.
Эти строки написались сейчас потому, что третий визит ко мне совпал с очень скверной петербургской погодой, когда дождь плакал за окном холодными слезами и где-то вдали уныло завывала шарманка. Однако надо признаться, что если бы даже за окном сияло лучезарное солнце и откуда-то издали доносились мелодичные звуки штраусовского вальса (вторая форма настроения — «бодрое»), то и тогда бы третий визит произвел на меня крайне отталкивающее впечатление.
На внешности вошедшего ко мне человека не мешает остановиться подробнее: громадный лысый лоб его украшался по бокам двумя густыми кустарниками рыжих волос, которые в своей стремительности выбегали даже на щеки, расстилаясь у углов губ мелкой травкой. Губы были бледные, бескровные, безмолвно шевелившиеся даже в то время, когда посетитель слушал кого-нибудь. Глаза были быстрые, беспокойные, сомневающиеся в чем-то и чего-то боящиеся. Полузакрытые веками, они глубоко запали, уйдя в темные впадины, будто в овраг, одна сторона которого густо поросла желтым растрепанным кустарником — бровями.
Да и вообще вся физиономия пришельца чрезвычайно напоминала странный пейзаж. Лоб, например, показался мне чрезвычайно похожим на проезжую дорогу, изборожденную глубочайшими продольными колеями — морщинами. Долго, вероятно, нужно было тяжелой колеснице времени ездить по этой дороге, чтобы оставить такие глубокие, нестирающиеся следы.
Ноги незнакомца были очень тонки и в коленях не сгибались; опирался он на очень толстую палку, и так как она тоже не сгибалась, то можно было подумать, что человек пришел на трех ногах.
Голос у него был противный, мерно скрипучий, с легким, не вынужденным необходимостью покашливанием, интонация раздражающая, тон рассудительный.
— По редакционному делу? — отрывисто спросил я, рассмотрев его.
— Если хотите — да, если хотите — нет.
Он сел, расставив острые углы колен и опершись руками и подбородком на палку.
— Скорее нет, чем да. Скажите, вы не отказываетесь от того, что вами был устроен десятого числа текущего месяца благотворительный вечер?
— Чего ж тут отказываться? Кажется, всему Петербургу было известно… Афиши были…
— Ага! Так, так. Не отказываетесь? Хорошо. В таком случае, мы быстро столкуемся. Итак, значит, пока что мы можем установить бесспорный факт: благотворительный вечер 10-го числа был действительно вами устроен? Да? Признаетесь?
— Ну, конечно, господи…
— Ага! — вскричал посетитель таким торжествующим тоном, будто бы он поймал меня в расставленную им хитроумную ловушку. — Ага! Вот это-то мне и надо. В таком случае — уплатите же мне восемьсот рублей!
— Какие восемьсот?
— Те самые, — сказал посетитель хладнокровно, с сознанием своего права. — Те, которые мною утрачены на вашем вечере.