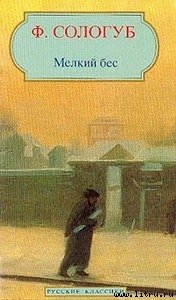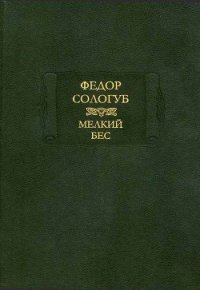Том 2. Мелкий бес - Сологуб Федор Кузьмич "Тетерников" (читать полную версию книги TXT) 📗
Но Готик все же мало-помалу припомнил, куда и зачем ходил он, второй, ночной Готик, в то время, пока первый, обыкновенный и всегдашний, лежал в постели тяжелым, бессмысленно дышащим телом…
В замке тихом и волшебном, там, вдали, за очарованною рощей, обитает нежная царевна Селенита, легкий призрак летних снов.
Дивный замок Селениты весь пронизан лунным светом.
Отуманенной дорогой, по долине, где мечтают полуночные цветы, Готик проходил тихонько, легкой тенью, еле слышный, еле видный, до травы едва касаясь. И пришел к царевне дивной, к милой Селените.
Тихая музыка еле слышно доносилась издалека.
Лунная царевна Селенита нежною улыбкою встретила Готика.
Ее голос звенел, как струя в ручье.
Как струя в ручье, как нежный звон свирели, звучал тихий голос царевны Селениты.
Вся она была нежная, воздушная и такая легкая, что казалась прозрачною.
Звезды горели не то на ее зеленовато-белой одежде, не то за нею и просвечивали сквозь ее тело.
И улыбалась, и чаровала. И говорила нежным свирельным голосом, и ароматы струились, сплетались с журчанием ее свирельной речи.
А Лютик надоедал шутками, — бесконечными, скучными, назойливыми.
«И все-то Лютик каламбурит! — досадливо думал Готик. — Как ему не надоест! Не диво, что мама на него сердится».
В самом деле, это ужасно надоедливо.
Что ему ни скажи, сейчас же начинается выворачивание и пригонка слов.
А вот отцу это почему-то очень нравится. Отец и сам веселый. Он часто поощрительно говорит Лютику:
— Ну-тка, Илютка, вальни хорошенько.
И Лютик старается, придумывает.
Глупо.
И до того это навязчиво, что Готик иногда и сам начинал каламбурить.
Тогда Лютик восторженно визжал, кричал и прыгал:
— Да он совсем стал, как я, так что и не различишь, кто это, — он или я, — он — Илия или я Илия.
И так приставал к Готику:
— Ты — Илия, или я — Илия, — что тот начинал сердиться не на шутку.
До драки доходило порою дело. Мальчишки!
Людмила Яковлевна, Лютина и Готина мать, сегодня утром поднялась рано против обыкновения.
Встала вместе с мужем, — он уезжал в город на службу.
В другие дни она вставала уже после его ухода, когда и мальчики подымались.
Проводила мужа до калитки, пришла в кухню, видит: уже плита растоплена жарко, — а вовсе и не надо так рано, — и Готина одежда сушится на веревке у огня, — совсем вся мокрая, — и сапоги в грязи.
Людмила Яковлевна встревожилась.
— Что это такое, Настя? — спросила она.
— Загваздал чегой-то Готик и сапоги и одежду, — со смехом сказала Настя.
— Да ведь вечером все на нем было сухое, — тревожно говорила Людмила Яковлевна.
— Да уж не знаю, где они загваздались.
Настя смеялась как-то странно, — не то лукаво, не то смущенно. От этого Людмиле Яковлевне стало жутко.
— Ты знаешь что-нибудь? — пугливо спросила она.
— Да нет, барыня, право нет. Что мне знать-то? — отговаривалась Настя.
— Готик ходил куда-нибудь?
— Не знаю, барыня. Право, не знаю.
Когда мальчики пили утренний чай, Людмила Яковлевна спросила:
— Готик, куда ты бегал ночью?
Готик покраснел и сказал:
— Никуда не бегал. Я спал.
Но сказал так, словно виноватый, — неуверенно, с запинкою.
— У тебя сапоги мокрые, — сказала Людмила Яковлевна.
— Не знаю, я спал, — повторил Готик.
— Готик сегодня вежливый, — сказал Лютик, — ес-ер прибавляет: я-с, говорит, пал, — а куда пал, не говорит.
— Вовсе не остроумно, — сказала Людмила Яковлевна досадливо.
Она больше не спрашивала Готика.
Но весь день провела в жестокой тревоге.
Ждала мужа.
А Готик мечтал о лунной царевне, милой Селениточке.
— Она Селениточка.
— А на селе ниточка, — дразнил кто-то Лютиным голосом.
И мечты о раздвоении весь день сладко волновали его.
Он думал:
«Как хорошо, что есть иная жизнь, ночная, дивная, похожая на сказку, другая, кроме этой дневной, грубой, солнечной, скучной!
Как хорошо, что можно переселиться в другое тело, раздвоить свою душу, иметь свою тайну!
Таить от всех.
И никто никогда не узнает.
Ночью все иное.
Дневные спят, лежат неподвижными телами, — и тогда исходят иные, внутренние, которых днем мы не знаем».
Готик стоял на берегу реки, смотрел на воду, как она все бежит, журчит, и мечтал о Селените, как она улыбается и говорит.
Подошел Лютик.
— Готик, — сказал он, — ты грамматику забыл.
— Отстань, — досадливо ответил Готик.
— Правда. Ну, вот, я тебе докажу: у свиньи хвостик, а у лошади?
— Хвост, — ответил Готик.
— У стола ножки, а у тебя? — допрашивал Лютик.
— Ноги.
— Мальчик читает книжку, а студент?
— Книгу.
— Ванечка надел рубашку, а Иван?
— Рубаху.
— Ванька надел сорочку, а Иван?
— Сороку, — с размаху ответил Готик.
Засмеялись оба.
Когда отец, всегда веселый и говорливый, — в него был Лютик, — возвращался из города со службы, Людмила Яковлевна вышла ему навстречу на станцию, что редко делала в другие дни. По дороге домой она озабоченно говорила:
— Можешь себе представить, Александр Андреевич, Готик нынче ночью куда-то бегал, а куда, не говорит. Говорит, что спал. Как хочешь, Саша… — И она заплакала.
Александр Андреевич посвистал, махнул рукой.
— Глупости! — сказал он сиповатым голосом. — Куда ему бегать? Какая-нибудь глупая фантазия. Просто на реку ходил.
— Это меня так беспокоит, — упавшим голосом сказала Людмила Яковлевна.
— Глупости! — повторил Александр Андреевич. — И не говорит, куда ходил?
— Да не говорит же, — плачевно сказала Людмила Яковлевна.
— А вот я его спрошу хорошенько, так скажет, — сердито сказал отец.
Было жарко, и ему было досадно, что надо сердиться, чего он не любил.
За обедом разговор шел беспокойный и неровный. И отец, и мать значительно и внимательно поглядывали на мальчиков. Людмила Яковлевна несколько раз заговаривала о дачных ворах. О том, что Настя иногда забывает запереть двери. Что воры легко могут влезть и в окно, если оно не закрыто на задвижку.
Готику было неловко и тоскливо.
Лютик один был весел и шутил, как всегда.
— За Настасьей всегда надо смотреть, чтобы двери затворяла, — ворчал Александр Андреевич.
— На то она и Настя-ж, чтобы держать двери настежь, — сказал Лютик.
Но, к удивлению обоих мальчиков, отец сердито сказал:
— Заткнись. Ничего нет смешного.
Лютик смешливо посмотрел на отца и мать.
«Что они дуются? — подумал он. — Уж не поругались ли дорогою?»
И подумал, что надо пошутить о чем-нибудь постороннем, не домашнем. Припомнил один из намеднишних разговоров с одним из своих бесчисленных знакомых, смешливо фыркнул и сказал:
— Готик, треугольник нарисован, а в нем глаз. Угадай, что такое.
— Ну, кто этого не знает! — сказал Готик. — Всевидящее око.
— Вот и не угадал. Николай Алексеевич мне рассказывал, что это он в одной церкви видел, в деревне, — такое изображение на стене сделано, и подпись: глаз вопиющего в пустыне.
Все засмеялись.
— Это ты сам сочинил? — недоверчиво спросил отец.
— Ну вот, спроси сам у Николая Алексеевича, — уверял Лютик.
Отец вдруг опять нахмурился.
— Вот за вами бы нужен глаз да глаз, — сурово сказал он.
Помолчали.
Лютик спросил:
— Готик, как зовут предводителя современных гвельфов?
Готик подумал.
— Ну, это просто, — сказал он.
— А ну, скажи!
— Того.
— Молодец!
— Объясни, — хмуро сказал отец.
— Очень просто, — сказал Готик, — если есть гвельфы, то есть и гибелинги… А Лютик уж конечно от слова «гибель» это слово произведет. Русские моряки довели свой флот до гибели, вот они и гибелинги.