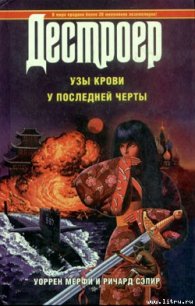У последней черты - Арцыбашев Михаил Петрович (серия книг .TXT) 📗
Трубачи на белых конях бледно сверкали медными трубами; за ними колыхался лес винтовок, мерно качались лошадиные головы, и, сотрясая землю мощным гулом, шел эскадрон.
Похороны были торжественны и печальны необычно. Весь город шпалерами стоял на пути, и было что-то особенное, испуганно-сосредоточенное на бледных лицах, долго смотрящих вслед медленно уплывавшему катафалку. Похоронный марш величественно разносился из конца в конец улицы: медные голоса труб в суровой мужественной печали отпевали последнюю страшную дорогу своего офицера.
Когда умолкала музыка, слышалось негромкое гнусавое пение хора, далеко растянувшегося впереди по дороге, а когда затихал хор, все ближе и слышнее доносилось дребезжащее вызванивание кладбищенских колоколов.
Наконец, показались белые ворота с покосившимся желтым крестиком наверху, кущи пожелтелых деревьев, кресты и памятники за осыпавшейся каменной оградой, окопанной глубоким рвом. Катафалк дрогнул в последний раз и остановился.
Черные ризы попов и странные долгополые кафтаны певчих, не останавливаясь, как свои, уверенно прошли в широко открытые ворота, а за ними, точно в воронку, торопливо мелькая, хлынула толпа.
Музыка смолкла, колокола затихли, и в наступившей тишине странно отчетливо послышались торопливое шуршание ног и негромкие голоса офицеров, снимавших гроб с катафалка. Никто не знал, как это делается, и шла бестолковая спешная суета; офицеры забегали то с той, то с другой стороны, виднелись покрасневшие от натуги лица и напряженно согнутые спины. Гроб тяжело и неровно закачался над головами и вдруг опустился вниз. Толкаясь и раскачивая во все стороны, офицеры быстро понесли его среди расступавшейся толпы по аллее, окруженной решетками и памятниками и усыпанной желтыми листьями. Какой-то молоденький корнет с венком в руках бегом догнал их и на ходу старался прицепить венок к гробу. Кто-то что-то с досадой заметил ему, но венок вдруг зацепился, и корнет, раскрасневшийся от усилий и неловкости, отстал. Лицо у него было довольное, хотя ленты венка волочились по земле и попадали под ноги несущим офицерам.
На ступеньках покосившейся паперти гроб горбато и хищно выгнулся, качнулся и нырнул в открытые темные двери.
Гулко и пусто было в маленькой церкви. Как-то чересчур отчетливо слышались шарканье шагов по каменным плитам и тяжелый стук высоких металлических подсвечников, устанавливаемых вокруг гроба.
Все смолкло, наступила торжественная и жуткая тишина, и вдруг мягкий старческий голос отчетливо и негромко провозгласил:
— Благословен Бог наш!
Толпа шелохнулась, надвинулась и замерла. Полковой командир величаво наклонил седую голову, как бы принимая на себя всю тяжесть великих слов, и уже не подымал ее до самого конца.
Громко и странно запел хор, наполняя переливчатыми волнами гулкую церковь, и еще не успел смолкнуть, как другой, грубый и громкий голос громко и безжалостно провозгласил:
— Господу помолимся!
— А-а!.. — вздрогнуло и прокатилось наверху под сводами.
— Господи помилу-уй! — робко и тихо отозвался хор.
— У-о-уй! — чуть слышно, переливаясь, замерло по углам.
— Руце Твои сотвористе мя и создаете мя и научуся заповедем Твоим… — не слушая, внятно и спокойно опять читал старческий голос.
— Господи, помилуй раба Твоего-о! — замирая, простонал хор.
Но голос уже читал дальше, перебивая и не слушая никого:
— Боящиеся Тебя узрят мя и возвеселятся, яко на словеса Твои уповах…
— Помилуй раба Твоего-о!..
Молча, потупив головы, слушали офицеры; вздыхала навалившаяся толпа; тоненький дымок кадильный сизым туманом обволакивал высокие свечи, и их бледные желтые огоньки вспыхивали и погасали в нем. Крышка гроба была открыта, и под белым маревом кисеи виднелся чей-то страшный, никому не знакомый и непонятный профиль со строго сомкнутыми губами и неподвижным венчиком на холодном костяном лбу.
— … В путь узкий хождший, прискорбный, вси в житии крест, яко ярем вземший… — неторопливо и вразумительно читал мягкий старческий голос, — приидите насладитеся ихже уготовах вам…
— Благословен еси, Господи-и! — отвечал хор.
— … паки мя возвративший в землю, от нея же взят бысть…
Было трудно и тяжело дышать: странные слова навевали жуткую грусть, сладкий запах ладана кружил голову, в окна лился холодный белый свет, и бледно таял вверху, в светлом куполе, грозный Бог Саваоф… Мягко и отчетливо читал голос:
— … воистину суета всяческая, житие же сень и соние, ибо всуе мятется всяк земнородный, яко же рече писание егда мир приобрящем, тогда во гроб вселимся… тем же, Христе Боже, представивишаго раба Твоего упокой…
«Странно как! — думал в сторонке заглядевшийся на огоньки свечей молоденький корнет, тот самый, который старался прицепить на гроб венок, — если все суета, тогда зачем же мы и живем? И как это — когда мир приобрящем, тут сейчас и в гроб вселимся?.. Непонятно как-то… А впрочем, это, должно быть, только так полагается…»
— … аможе вси человецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь аллилуйя…
— Со святыми упокой, Христе…
— Кая житейская сладость пребывает печали непричастна, кая ли слава стоит на земле непреложна… вся сени немощнейша, вся соний прелестнейша… единым мгновением и вся сия смерть приемлет…
Голоса странно и невыразимо грустно сплетались, сходились, расходились и замирали, стеная. Молоденькому корнету взгрустнулось и захотелось плакать.
— … плачу и рыдаю, егда помышляю смерть и вижду во гробе лежащу, по образу Божию созданную нашу красоту, безобразну, бесславну, не имущую вида…
«Да, это ужасно!» — с тоской думал молоденький корнет, чувствуя, что у него неудержимо щиплет в носу.
Все продолжались бесконечно эти голоса, и, замирая, откликался хор. Иногда начинали петь что-то длинное и громкое, точно обещая какую-то радость, а потом опять грустно и безнадежно читал одинокий равнодушный голос. Становилось тяжело стоять, и казалось, что этому конца не будет.
«Господи, как долго! — с тоской подумал молоденький корнет. — А странно: вот он лежит и ничего не слышит… Нам грустно, а ему уже все равно… Хоть бы конец скорее!.. И неужели он ничего не чувствует?.. Так-таки ничего… даже не чувствует, что уже ничего не чувствует?..»
Молоденький корнет засмотрелся на высоко возвышающийся мертвый профиль, смутно очерченный под дымкой кисеи. Краем уха он слышал те же непонятные слова и перепевы хора, но мысли его расплывались, — он задумался.
Представилось ему, что рано или поздно, а будет и он сам лежать вот так же, под белой кисеей со смертным венчиком на лбу и сложенными на груди руками… Так же будут петь и кадить вокруг него, так же будет литься в окна холодный белый свет и высоко в куполе будет так же плавать Бог Саваоф с распростертыми, не то благословляющими, не то проклинающими руками… Но он уже ничего не будет видеть и слышать… И это будет, непременно будет!.. Это ничего не значит, что вчера кутили у Назимова, и он проиграл пятьдесят рублей поручику Колпакову… ничего не значит, что он сейчас живой, стоит, слушает и думает… ничего не значит, что Катя вчера рассердилась за то, что он хотел поцеловать ее, и ударила его по рукам… милая Катя!.. И все-таки он будет лежать и ничего не видеть и не слышать!.. Страшно!.. И как это никто как будто и не думает об этом? Об этом, в сущности, только и надо думать, потому что в конце концов только ведь это и будет!.. Неужели будет?
Молоденький корнет попробовал, как это будет, и закрыл глаза. Но сейчас же с испугом открыл.
— … зряще мя безгласна и бездыханна, восплачите о мне, братие и друзи, сродницы и знаемии… но приидите вси любящие мя и целуйте мя последним целованием!..
«Бедный, бедный Краузе!» — подумал молоденький корнет, и слезы повисли у него на ресницах.
Кругом все тронулось и зашевелилось: происходил обряд последнего целования. Один за другим подымались на ступеньки помоста офицеры, торопливо крестились и, испуганно оглянувшись на мертвое, незнакомое, обезображенное лицо со строго сомкнутыми губами, кое-как целовали костяную, холодом веющую руку и так же торопливо отходили.