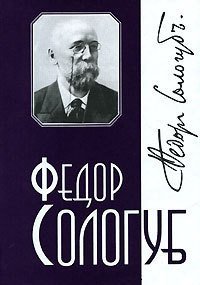Том 8. Стихотворения. Рассказы - Сологуб Федор Кузьмич "Тетерников" (читать книги полные .txt) 📗
Стал Сковородищин таскать дрова в печи, печи топить, — много муки было с дровами, сырые.
Напихает Сковородищин в печку дня растопки бумаги, щепок, лучины, бересты, — запылает, затрещит, — ну вот, затопил. А через пять минут подошел, — погасло, начинай сначала.
Евгения Тарасовна принялась стряпать, — утром, возвращаясь от генерала, принесли кое-что.
На службу Сковородищин не пошел, по телефону отпросился. Ничего, Лев Петрович не рассердился, даже посочувствовал. Говорил:
— Хотя я без вас как без рук, ну да уж сегодня кое-как обойдусь. Иван Гаврилович вас пока заменит.
Еще бы не заменить! Иван Гаврилович не прочь и совсем заменить Сковородищина, — тоже хороший работник. Нет, дома долго засиживаться нельзя.
Труден был этот день Сковородищину. Пиджачок испачкал, сам утомился. Евгения Тарасовна тоже устала. Позавтракали в три часа чем Бог послал. Обед как варить, подумать страшно.
Сидели в кабинете Сковородищина, пригорюнившись. Вдруг раздался звонок с парадной.
— Кого Бог дает? — спросил Сковородищин.
— Кого-то черт принес, — в ту же минуту сказала Евгения Тарасовна. — Вот уж не в пору-то!
Пошел Сковородищин отворять, и через минуту услышала Евгения Тарасовна знакомый голос. Курсистка Фимочка Кочанова. Ну, на такую не рассердишься, милая девушка. Правда, очень бойкая, но добрая, и занятия свои любит, и поговорить с нею о чем хочешь можно, — не сплетница, не выдаст. А если и невпопад придет, можно ей прямо сказать:
— Некогда, Фимочка, уж вы лучше другой раз придите.
Не обидится.
Так и теперь хотела повернуть Евгения Тарасовна. Очень мило встретила гостью, расцеловала ее и говорит:
— Ах, милая Фимочка, рада я вам, а только такое у нас дело, — даже чаем угостить не знаю как.
— Знаю, — сказала Фимочка, — у вас прислуга Ольга Дмитриевна ушла. Мне, Вера Аркадьевна сказала. Это ничего, я вам помогу.
Развернула принесенный с собою сверточек, надела белый передничек, смеется. Сама румяная-румяная, не то с мороза, не то с молоду да с веселу. И так была милая, чернобровая, черноглазая, стройная, тонкая, а в белом передничке вдвое милее стала. Спрашивает:
— Что готовить к обеду, Евгения Тарасовна?
Как ни отнекивались Сковородищины, Фимочка все сделала, что надо было. Комнаты убрала, пыль с мебели смахнула, полы подмела, на стол накрыла, суп сварила, — из круп, французский, — рыбу на второе, на третье компот, — обед подала и кофе заварила.
И Евгения Тарасовна, и Никодим Борисович были умилены и растроганы. Ходили за Фимочкою, пытались что-то делать и только мешали. Уж она им не раз говорила, смеючись:
— Да сидите вы, ради Бога, без вас все сделаю.
После обеда все втроем сидели и пили кофе, и уж так ободрились и развеселились, что даже рассмеялись, когда от промчавшегося по улице грузовика на подносе задребезжали чашки. Фимочка спросила:
— Все хорошо?
— Уж так вам благодарны, что и сказать нельзя, — отозвалась Евгения Тарасовна.
— Уж так хорошо, точно в рай попали, — поддержал и Никодим Борисович.
— Значит, вы мною довольны? — опять спросила Фимочка.
— Да уж, Господи, да уж так довольны! — восклицал Сковородищин.
А Евгения Тарасовна от полноты чувств встала и принялась целовать Фимочку. Фимочка звонко засмеялась.
— Ну, вот и хорошо, — сказала она. — Значит, паспорт я сейчас отнесу старшему, пусть завтра пропишет, а сама кстати и за вещами съезжу. Через час буду опять здесь.
Оба, муж и жена, смотрели на нее с удивлением. Фимочка расхохоталась.
— Ну что ж, — сказала она, нахохотавшись, — была у вас прислуга Ольга Дмитриевна, теперь будет сотрудница Фимочка. Вы не сомневайтесь, я и все сделать успею, и на курсы найду время. Да, Боже ты мой! да чему же тут удивляться! Почему нельзя курсистке за стол и комнату быть сотрудницею в приличном семействе?
— Сотрудницею! — раздумчиво сказал Сковородищин. — Вот это хорошее слово.
— Настоящее слово, — уверенно сказала Фимочка.
Оделась и ушла. Сковородищины посмотрели друг на друга.
— Пришла девице блажная фантазия, — сказал Сковородищин, осторожно посматривая на Евгению Тарасовну. — Что мы теперь с нею будем делать?
— Никодим Борисович, она — милая, — возразила Евгения Тарасовна, — и она вошла в наше положение. Поживем увидим. Может быть, скоро все наши Даши и Паши пойдут на фабрики да на заводы, а у нас будут сотрудницами учащиеся барышни. На фабриках хорошо платят, а барышне у плиты удобнее, чем на фабрике.
— Да, Фимочка — милая, — согласился Никодим Борисович.
Скоро Фимочка вернулась со своими вещами. Устроилась в той по коридорчику между столовою и кухнею комнате, которая носила название ледника, потому что ее, за ненадобностью, не топили. Фимочка сама вытопила печку. Ночью было ей не тепло, — сразу не натопишь, настыла очень, — но это ее хорошего настроения не испортило.
Через несколько дней Сковородищины опять были в гостях у Лакиновичей. Поехали на трамвае вместе с Фимочкой. На трамвае, известное дело, их потолкали и поругали. Двадцать два дюжих мужика сидели на скамейках, посреди вагона стояли девушки, дамы, старики. Мужик, не попавший на скамейку, держался одною рукою за лямку, другою за плечо стоявшей впереди Фимочки и при каждом толчке вагона топтал калоши Евгении Тарасовны. Она сказала:
— Вы мои ноги давите.
Он крикнул:
— А вы бы в автомобиль сели. Шляпку наденет, думает, ей все права дадены.
Другие мужики хохотали.
Сковородищин вступился было за жену, но она зашептала опасливо:
— Никодим Борисович, оставьте его. Еще он скандал поднимет.
Кое-как доехали. Лакинович (педагог, математик), его жена (с заботами о женах запасных) и его шесть дочерей (три в очках, учительницы русского языка и литературы, и три в пенсне, курсистки на историко-филологическом отделении) очень интересовались новым домашним устройством у Сковородищиных. Очень хвалили Фимочку и очень удивлялись ей. Не совсем понимали, прилично это барышне или нет. Фимочка весело смеялась.
В остальном все было совсем обыкновенно и были почти те же гости, что и тогда. Из новых был поэт в косоворотке и в поддевке. Он прочел несколько своих стихотворений. В них было много слов, совсем непонятных для русского городского жителя. Но филологички (все шесть) были в восторге.
Когда сели пить чай в уютной столовой, за столом теснились веселые гости и любезные гостьи, — господа. На столе шумел самовар, блестела красивая чайная посуда, очень аппетитно были разложены и расставлены печенья, булочки, сыр, варенье. Одна из филологичек разливала чай. Две горничные, — прислуга, — очень выдержанные, чинные, спокойные, одетые просто, чисто и прилично, блистающие белизною передников, разносили чай. У них был такой вид, точно они — рабыни, преданные господам, и высшее счастье для них в том, чтобы разносить стаканы и чашки.
Господа, — хозяева, гости, гостьи, — разговаривали о своем, негодовали и радовались, хмурились и смеялись. Две горничные, — прислуга, — делали вид, что не слышат барских разговоров, и хранили на лицах выражение почтительного внимания.
Фимочка, которой было все равно, самой ли наливать себе чай или брать его из рук горничной, смеялась веселее всех.
Самосожжение зла
Этот правдивый, простодушный рассказ извлечен мною из одной старой, милой книжки, где много содержится нравоучительных и забавных историй и повестей, приключений веселых, печальных, смешных и удивительных. Показалось мне почему-то, что то происшествие, которое я собираюсь пересказать, в отдаленных подобиях прообразует душу века сего. Впрочем, длинные предисловия излишни.
Андалузский дворянин из знатной семьи, дон Родриг де Инестрос, человек заносчивый, грубый и жестокий, окончил военную службу тем, что поссорился со своим генералом, и поселился в приморском городе Санлукар де Баррамеда, лежащем близ того места, где очаровательный, хотя и мутный Гвадалквивир, широко разливаясь, впадает в море. В этом городе дон Родриг женился на благородной девице отменно доброго и приятного нрава. Огорчаемая часто невниманием, грубостью и кутежами дона Родрига, донна Марианна умерла в молодых еще годах, оставив мужу двоих детей, сына и дочь, столь же несходных нравом, сколь несходны были между собою их родители. Сын, дон Хоакин, был весь в отца, и отец весьма любил его.