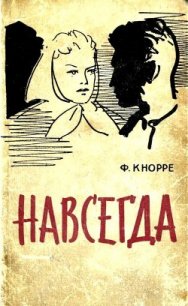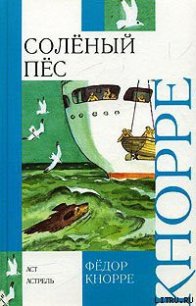Шорох сухих листьев - Кнорре Федор Федорович (прочитать книгу TXT) 📗
В воздухе пахло ночной бодрящей свежестью многоводной ранней весны, зажженные фары освежали седую от росы траву, и вся машина была тоже в капельках росы, и слышно было, как вода журчит, сбегая по канавам к реке.
Казимира мужественно сказала "Ну!" и крепко пожала Платонову руку, а тетя Люся виновато чмокнула его в щеку и перекрестила украдкой так, чтобы никто не заметил.
Майка первой нырнула в кабину грузовика и прижалась к мужу, давая место Платонову, и, забавляясь его удивлением, закричала:
- Садитесь скорей, я с вами в Москву еду!
Приятно было смотреть на эту пару: проехаться вместе на грузовике ночью в город и тут же обратно - и то было для них громадным удовольствием.
Платонов сел и захлопнул дверцу. Не заводя мотора, Леша мягко тронул машину под горку. Тетя Люся взволнованно замахала платочком, всхлипнула и, не дожидаясь замечания, обернулась к Казимире:
- Ну, осуждайте, осуждайте, я и сама знаю, что надо радоваться, и я радуюсь, вы подумайте только, такая чудесная телеграмма. Я просто боюсь поверить в такое счастье!
- Хорошо. Но так волноваться совершенно нечего.
- Это вы им скажите! - досадливо воскликнула тетя Люся. - Я сама не понимаю, что с ними делается, с этими моими букашками: расчувствовались, просто разбушевались, удержу нет!..
Стало слышно, как зарычал начавший работать мотор, машина съехала к самому берегу, повернула, бросив на мгновение два столба света на воду, и ушла за бугор.
...Платонов, еще плохо понимая, что с ним происходит, сидел, упираясь ногами, придерживая портфель на коленях и хватаясь за ручку дверцы, когда машину встряхивало и Майка с веселым визгом валилась набок. Леша вел машину какими-то ему известными кратчайшими путями, взлетел на какой-то холм и снова спустился к самой воде.
- Николай Платонович, а верно, что Лешка у нас в школе шепелявый был?
Платонов помнил, как в Посаде среди мальчишек появилась уличная мода как-то шикарно шепелявить, выговаривая вместо "ч" что-то вроде шипящего "с", и у Леши это получалось особенно здорово.
- Что было - было, - охотно поддержал Леша. - Например, вместо подчиненные, у меня получалось подсиненные. Черт нас знает, и с чего это у нас пошло, не могу понять. А отвыкать было как трудно!
- А Николай Платоныч тебя отвык, ну отучил! Да?
- Старался, - сказал Платонов.
- На всю жизнь осталось, - смеясь, покачал головой Леша. - Перед всем классом он мне однажды говорит: "Как это ты, брат Леша, сказал? Повтори, пожалуйста". Ну я повторил: "Подсиненные его отса!", а он говорит: "Какая-то грустная картина получается, вроде они все ходят такие синеватые!"
- Ой, не могу! - Майка, хохоча, повалилась на плечо мужа.
- Тебе смешно, - с удовольствием продолжал Леша, - а мне не очень-то было! Он меня нарочно стихи вслух заставлял читать и подбирал такие, чтоб я обязательно попал в ловушку. Вот я читал-читал, да и брякнул: "Не искусай судьбу!" - и с чувством, на полный голос. А этот безжалостный человек, Николай Платоныч, так серьезно мне говорит: "Ты запомни, Алешка, этот совет, смотри лучше не искусай судьбу, а то как бы она сама тебя не искусала!"
Майка еще долго хохотала и вскрикивала: "Ой, я не могу!" - и, успокоившись, привалилась на плечо мужа, еще время от времени громко хмыкая, и через минуту заснула. Машина покатилась ровно, шурша по твердому песку и иногда одним колесом въезжая в воду.
Луна теперь смотрела в правое стекло, и Платонову видна была лунная дорожка на залитых весенней водой лугах, и в кабине стоял запах бензина, а из приоткрытой щели дул ветерок, пахнувший речной свежестью, и низкий туман медленно полз навстречу машине, и Платонов подумал, что даже если ничего уже не будет в его жизни, а только эта ночная поездка, ничего, кроме этой луны, ночной реки и тумана и телеграммы, - то это тоже очень много, невообразимо много для него.
Он прикрывал глаза, его мягко покачивало, машина бежала, монотонно бурча и поскрипывая по хрусткому песку, и ему почему-то стало представляться, что этот туман ползет где-то высоко в горах, где облака цепляются за вершины, и так же вот бежит машина мимо лесистых склонов и черных провалов горных обрывов - бежит куда-то вперед, наверное, к теплому морю, которое там, внизу, и почему-то все хорошо, и они с Наташей вместе, и машина несет их туда, где их ждет долгая счастливая жизнь...
Машину встряхнуло, она, громко рыча, взяла подъем и вдруг выехала на асфальт и, точно вырвавшись на свободу, с нарастающим гулом помчалась по шоссе к городу, через несколько минут по бокам замелькали домики, и стали все увеличиваться, и машина въехала в освещенные улицы и помчалась между двух рядов высоких домов к вокзалу...
Майка с Лешей распрощались и умчались обратно, оставляя позади городской шум, освещенные улицы, в тишину и сумрак весенней ночи, а Платонов вошел в зал ожидания и уселся прямо против запертого, вделанного в каменную стену, точно амбразура для пулемета, окошечка закрытой еще кассы, еле сдерживая нетерпение и волнение давно не ездившего человека.
Рядом с ним на скамье спал старик, поджав ноги в грязных сапогах, положив под голову тощий, перевязанный толстой веревкой мешок. Какие-то люди, подтаскивая по полу за собой тяжелый багаж, заглядывали в амбразуру окошечка, робко постукивали согнутым пальцем, напоминая, что пора открывать кассу, и в то же время боясь рассердить того пулеметчика, который, наверное, там скрывался.
Появлялись все новые люди с испуганными лицами опоздавших, таща баулы, мешки и готовые лопнуть от тяжести раздутые чемоданы. Уже несколько раз проходил мимо заспанный железнодорожник и каждый раз говорил: "Эй, дед, тут не гостиница, тут спать не полагается!", ночной вокзал постепенно оживал, и наконец открылось окошечко, и мгновенно образовалась толчея, и, хотя устроили ее всего человек семь или восемь, казалось - это целая толпа, шумная и беспорядочная.
Опять прошел железнодорожник и сказал, что тут не гостиница, и старик со вздохом во сне повернулся на другой бок.
Платонов купил билет и первым вышел на темную длинную платформу, где светились часы и под окнами буфета, сейчас закрытого и еле освещенного, чернели на асфальте лужи, а внизу, за краем платформы, было совсем темно, только маслянисто отсвечивали рельсы, убегая и разветвляясь где-то вдали, где у самой земли светили цветные огоньки. И вдруг над безлюдной платформой разом вспыхнула вся линия фонарей, громко, точно среди белого дня, заиграла веселая музыка и минуту гремела, точно в пустыне, над безлюдной платформой и черными лужами. Потом начал накрапывать дождик, и платформа стала оживать.
Лоснящийся мокрый паровоз вынырнул из дождевой завесы и, отдуваясь, шумно прошел мимо, и длинная вереница вагонов с занавешенными темными или слабо, по-ночному, освещенными окнами заполнила свободное пространство между платформами. "Трудно поверить, - думал Платонов, поднимаясь по ступенькам в вагон, - что вот эта подножка завтра будет далеко отсюда и, шагнув с нее на землю, я уже ступлю на землю Москвы".
Вагон был полон сумрака, тепла, вздохов спящих людей. Пробираясь к своему месту, Платонов осторожно обошел чью-то толстую ногу в пестром носке, торчавшую поперек прохода, споткнулся о корзинку, к которой был привязан бидон, прошел мимо отделения, где двое солидных дядей с расстегнутыми воротами беседовали у подоконного столика, на котором топорщилась большая измятая газета с растерзанной рыбиной и стояла, покачивая жидкостью, полупустая водочная бутылка о видом председателя, руководящего беседой.
Платонов забросил на верхнюю полку пальто, забрался сам и, отвернув краешек занавески, стал смотреть на платформу, на которой он сам стоял всего минуты две назад. Полка под ним мягко качнулась, и большая лужа под фонарем, окна буфета, вокзальная дверь - все сдвинулось, поплыло назад, все быстрее гуськом побежали назад привокзальные деревца и пакгаузы, цепочка вагонов на запасном пути. Поезд протарахтел на стрелках, колеса застучали чаще, и уже мчались назад будочки, заборы, дома, кусты, огни, и скоро за окном стало черно от высоких деревьев леса. Платонов выпустил из рук) занавеску, откинулся на спину, положил руки под голову и с наслаждением потянулся всем телом, удержавшись, чтоб не засмеяться вслух от переполнявшего его радостного чувства.