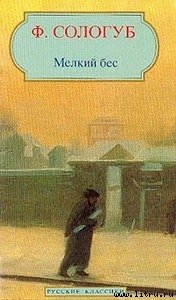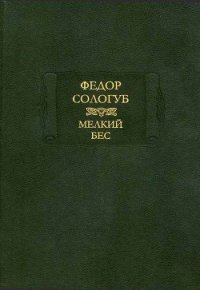Том 2. Мелкий бес - Сологуб Федор Кузьмич "Тетерников" (читать полную версию книги TXT) 📗
А она, плачущая и молящаяся невеста неведомого жениха, она, отдавшаяся покорно порывам своей творимой печали, — что чувствовала она?
Как ни была она рада отдать свое сердце томлениям печали, как ни приготовлена была она к этому тоскою сознанных предчувствий, — все же представшее ей превзошло её ожидания.
Очарование этого молодого и такого смертельно спокойного лица, к которому припала она для поцелуя притворной скорби, в один краткий миг овладело ею, — и чувствовала она, что довеку не свергнуть ей этого сладкого и жгучего очарования. Что-то более прекрасное, чем красота, и более властное, чем власть любви, презирающей могильный холод и мрак погребального склепа, нечто неизъяснимое и невыражаемое никакими человеческими словами, обаяние, ведомое одной только смерти, приникло к ней, — и уже знала она, что лежащий в белом гроб, осыпанный алыми розами, обвеянный взмахами пламенеющего кадила, окруженный зыбкими волнами синего ароматного дыма, где растворен темный ладан, что он воистину желанный, возлюбленный её жених.
И когда спускалась она со ступеней чёрного катафалка, и глазами, полными тоски, окинула простор холодного покоя, отыскивая, где бы ей укрыть свои слезы, уже нестерпимою мукою было пронизано её сердце. Она сделала два три шага, и почувствовала, что голова её кружится. Она повернулась лицом к гробу; возрастающая слабость была в её дрожащих коленях. Уже не выбирала она места и, где пришлось, опустилась, почти упала близ гроба. Рядом с нею плакала седая мать, тихо, слезливо всхлипывая. Черная ряса священника медленно двигалась близко от её лица. Она заплакала, приникла лицом к рукам, брошенным на пол, и над нею звякнули тихим звяканьем колечки кадильной цепи, пронесся низкий и уверенный голос диакона, и грустно, красиво и звонко полилось панихидное пение, — слова трогательные, значительные, более веские, чем бедная вира людская, такие мудрые, такие утешающие, — и такие неутешительные.
Закрыв лицо руками, едва слыша слова и пение, едва вдыхая ладан грусти, она ясно видела перед собою лицо покойного, внезапно ей милое. Видела его живым, — смеялись глаза, и уста, полуприкрытые черными усами, двигались, и слова были мудрые и правдивые, и слова были о том, что неизменно близко и дорого сердцу. Всматривалась, — ж черты лица, в короткую минуту целования схваченные цепкою памятью внезапно влюбленной, оживали теперь передо нею, и все яснее представал милый облик. И каждая черта этого лица неложно говорила о чем-то, бесконечно милом и близком.
Кончилась панихида. Уходили. Около родителей покойного были близкие. Утешали, шептали что-то.
Нина стояла одна. Ей казалось, что она окружена чужою и враждебною атмосферою.
Совсем одна…
Неужели уходить? Оставить милого?
Заплакала. Пошла из комнаты, тихая, грустная, милая, жалкая, провожаемая влажными взглядами родных и знакомых.
На лестнице, на площадке нижнего этажа остановилась, плача. И вдруг послышались бегущие сверху легкие шаги. Нина посмотрела вверх по лестнице, — какое-то неясное предчувствие сказало ей, что это за нею.
Девушка в траурном ситцевом платье, с креповым чепчиком на голове, русоволосая и веснушчатая, с серыми и покрасневшими от слез глазами, — горничные так плачут по добрым господам, — быстро сбегала по лестнице. Остановилась перед Ниною.
— Барышня, — тихонько заговорила она, слегка запинаясь, точно конфузясь, — наша барыня, их мамаша просят вас пожаловать к ним на минуточку.
— Зачем? — робко спросила Нина.
— Не могу знать, барышня, — ответила горничная, но видно было по её тону, что знает и хочет сказать. — Только очень просят, — продолжала она. — Кажется, у них письмо. Да не знаю уж что. Только очень просят.
Нина поднялась по лестнице, и смутная боязнь томила ее, навивая ей какие-то внешние опасения, такие мелкие сравнительно с глубиною её печали. Думала:
«Неужели попросят не приходить более? Но за что же? Или станут обвинять в смерти моего милого?»
И ручьем хлынули слезы. Пошатнулась. Горничная поддержала ее под локоть, участливо заглядывая в лицо.
«Пусть обвиняют, — думала Нина, — я не буду спорить. Пусть я виновата. И почем я знаю? И что я знаю?»
Горничная провела ее в гостиную.
Видно было, что вся семья живет на даче, и приехали сюда только для похорон. Мебель была в чехлах и поставлена как-то кое-как, не совсем по зимнему. Зеркало в простенке было наскоро и неровно прикрыто чем-то белым, — это потому, что в доме быль покойник.
Нина отвела креповую вуаль от лица, побледневшего под летним загаром и даже словно похудевшего от печали, — и смотрела печальными, робкими глазами на седую худощавую женщину, довольно высокого роста, поднявшуюся ей на встречу с дивана.
«Мать», — подумала Нина.
Как-то механически отмечала:
«Седая. Тонкая. Глаза голубые, светлые. Похожа на сына».
Казалось почему-то, что еще на днях эта женщина с заплаканными глазами и отчаянным лицом не была седой, — тщательно зачесывала волосы, и даже, может быть, подкрашивала их, а теперь вдруг разом опустилась и уже забыла о своей внешности, и о растрепавшихся на голове седых космах.
Пригласила сесть. В этой же комнате, у окна, стоял отец, высокий, прямой старик. Стоял в полуоборот к окну, точно и хотел смотреть на гостью, и хотел скрыть от неё выражение печали на гордом старческом лице.
— Вот, — сказала старуха, — смотрю я на вас, вы одна здесь нам незнакомая. Вот я и думаю, что это вам должно быть письмо от Сереженьки. Вам?
— Не знаю, — сказала Нина. — Как я могу знать?
Старалась не плакать, а слезы опять хлынули из глаз. Заплакала и мать.
— Так это для нас неожиданно, — говорила она. — Ждем Сереженьку к обиду, — он на день в город уехал, — и вдруг… Да, о письма-то я начала. Видите…
Старуха вынула из альбома, лежащего на столе, письмо в узком серо-зелёном конверте, и сказала:
— О ком Сереженька пишет, мы никак не могли догадаться. Но это письмо, — ко мне он письмо оставил, и — вот это письмо вложено, — просит передать молодой барышне, которая у нас не бывала, передать, если она придет на панихиду или на вынос. А узнаете, пишет, по тому, что она в трауре будет и, может быть, поплачет немножко. Ей, пишет, и отдайте. Если же она не придет, сожгите, пишет, не читая. Вот я и думаю, не вам ли письмо.
И, не колеблясь ни минуты, Нина сказала:
— Да, это мне.
Побледнела. Протянула руку за письмом, вся полная страха. Тяжелые ли упреки бросит ей из-за таинственной грани её милый? Слова ли нужной любви и утешения?
Подумала:
«А если придет она, другая?»
Шуршал конверт в дрожащих пальцах. И уже нетерпеливою рукою разорван край конверта. Быстрые мысли чередовались, пока вытаскивала письмо из темницы конверта:
«Придет — отдам. Да не придет. Злая, оставила, забыла, в страшные предсмертные его часы не томилась тоскою предчувствий. Как я. Это — мое. Но если придет, и траур наденет, и заплачет, — отдам».
И отец и мать стояли перед нею, и смотрели на её лицо, когда она читала. Точно по лицу хотелось узнать им страшную тайну.
Читала:
«Милая, дорогая, пишу тебе в странной, может быть, несбыточной надежде, что ты все-таки придёшь, к моему гробу, заплачешь над моею могилою, хоть короткое время поносишь по мне траур. Зачем мне это? Знаю, что это — ужасная ерунда, а все-таки утешен мечтою о том, что ты придешь. И если придешь тебе отдадут это письмо. А не придешь, сожгут. Так я просил маму, а она у меня славная и не обманет, сделает, как я прошу. Ты, я верю, не огорчишь её ни одним ненужным словом. Я, видишь-ли, умираю. Всё одно к одному подошло. Не вини себя, милая. В нашей разлуке я сам виноват, я один. И мне пенять не на кого, а только это было так, словно из ткани моей жизни кто-то выдернул какую-то связующую нить, и всё стало рассыпаться. По внешности я остался таким же, и шёл заодно с товарищами, вообще не вешал носа. Даже взялся за дело, которое раньше, может быть, сделал бы с размаха. А теперь оно меня окончательно раздавило… Убить всегда трудно, — но я знаю, что… Да что говорить! Взялся, и не могу. Предпочитаю убить самого себя. Не потому, чтобы старые прописи из морали, ну, там святость человеческой жизни, — да нет, может быть, и это. Так, страшно и темно. Весь изнемог. Я — человек конченный (впрочем, эту фразу я слизнул у кого-то, ну да сойдет). Тебе хотел бы сказать что-нибудь очень светлое и спокойное. Ты, может быть, улыбнешься сквозь слезы, но пусть, — я все-таки тебя, Киска, очень люблю. Будь счастлива, обо мне вспоминай не часто и без досады. А если бы ты вернулась, — но, впрочем, что вам, живущим, заветы из-за гроба? Чепуха, не правда ли? И все-таки, мой друг, моя милая, тот, кто увидел свет и отвернулся от него, порядочная дрянь.
Прощай. Твой Сергей.»