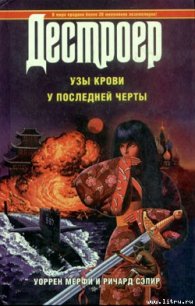У последней черты - Арцыбашев Михаил Петрович (серия книг .TXT) 📗
— Тренев зарезался! — неожиданно заметил Михайлов, как будто не слыша.
Арбузов удивленно поднял голову.
— Что?
— Тренев зарезался, — повторил Михайлов устало.
— Вот те и раз! — сказал Арбузов с величайшим недоумением и присвистнул. — С чего это они все?.. Вишь, мор пошел!.. Ну, да черт с ним! Зарезался так зарезался… одним болваном меньше стало — печаль невелика! Еще много осталось!.. Мне не до него. Нет, а вот что твоя утопилась, ты знаешь?
Михайлов побледнел.
— Что тебе надо?.. Зачем ты…
Арбузов весело рассмеялся.
— Ага, стало быть, знаешь! Ну, ладно… Как зачем?.. Я пришел…
— Чтобы меня мучить? — с горьким укором, но как-то бледно спросил Михайлов.
Глаза Арбузова положительно засверкали.
— Мучить? А почему и нет?.. А как я мучился, ты знаешь? — вдруг близко придвинув к нему лицо и не сводя с него воспаленных, полных жгучей ненависти глаз, тихо прибавил он.
Михайлов не ответил.
— То-то!.. Это тебя не касается? Чужая боль никому не больна?.. Удивительно мне это, право, как некоторые люди уверены, что к ним все должны быть добрыми и жалостливыми, а сами… Нет, брат!.. Дудки!.. Вот теперь ты поерзай, а я посмотрю!.. А то ты в самом деле думал играючи всю жизнь пройти!.. Легкою стопою? По-о цветочкам?.. А?.. Да что же ты молчишь?
— Нечего мне тебе говорить!
— Нечего? Хм… немного!.. А ты знаешь, что по живым людям шел?.. Теперь, вижу, начинаешь понимать!.. Так-то!.. Я, брат, слыхал калмыцкую пословицу, что цветок счастья кровью не поливают!.. Ты вот попробовал… ну, что ж, распустился цветочек, а?..
Михайлов молчал.
— А знаешь, что я тебе скажу, — как будто с самым искренним участием сказал Арбузов, — как погляжу я на тебя, так дело твое плохо выходит!.. Встряхнуло тебя порядком, даже исхудал совсем… Смотри!.. А на похороны пойдешь? Занятно бы было! — вдруг прибавил он, точно ударил исподтишка.
Михайлов вскочил.
— Как ты смеешь! — звенящим высоким голосом крикнул он.
Арбузов посмотрел на него с мрачным наслаждением.
— Ишь, даже побледнел весь! — как бы про себя проговорил он. — Эх, плохо, плохо твое дело!.. Да ты сядь, сядь!
Он, не вставая, протянул руки и легко посадил Михайлова на место.
— И жаль мне тебя, это я уже искренно говорю! Потому, вижу я, что не в себе ты!.. А ведь я тебя любил, Сережа! — неожиданно закончил он с болезненной грустью.
Михайлов вздрогнул.
— Послушай, Захар, — заговорил он как-то чересчур быстро, волнуясь и спеша, — я не виноват перед тобою!.. Это случилось как-то само собой! Я очень страдал тогда!..
Он протягивал руку почти с мольбою. Арбузов слушал внимательно, опустив голову.
— Ты тогда уехал, Нелли осталась одна… просила заходить… ты и сам просил… Я не думал об этом, клянусь тебе!.. Это сделалось как-то сразу, неожиданно, в один вечер… как в тумане!.. Это проклятие какое-то было! Если бы ты знал, как я раскаивался потом, как дорого дал бы, чтобы ничего не было!.. Оттого и с Нелли мы разошлись так скоро, что между нами всегда ты стоял!.. Я не хотел этого!..
— Ветерком надуло! — пискливым тенорком, смиренно кивая головою, перебил Арбузов, и вдруг лицо его исказилось такой отчаянной, непримиримой ненавистью, что Михайлов невольно отшатнулся.
— Ну, что же ты замолчал? Вали дальше! Это любопытно!.. — так же сладенько, с издевочкой продолжал Арбузов. — Ну, дальше!.. Не думал, не хотел, само собою, сам просил… Ну, дальше! Дрянь ты, ничтожество и больше ничего! — бешено крикнул он. — Мне тебя убить, что вошь раздавить, а ты… — задыхаясь, прошипел Арбузов. — Еще жалости просишь… прощения!.. Подлец!
Михайлов не обратил внимания ни на ругательства, ни на угрозу, только протянутая рука его бессильно опустилась, да тоска выразилась на лице.
Арбузов опомнился.
— Слушай, ты!.. Врешь, что не знал!.. Ты нарочно это сделал!.. Именно потому и сделал, что я тебя сам просил, что я тебе друг был!.. Простого разврата ты уже столько испробовал, что тебе чего-нибудь поизысканнее захотелось, с психологией!.. Вот, мол, невеста лучшего друга, который мне ее сам поручил, который мне верит, как самому себе… она его любит, а на меня и не смотрит… А я вот покажу вам, как на меня смотреть!.. Еще какой-то Арбузов, ничтожество, купеческий сынок, счастья захотел!.. Я кто? Талант, красавец, умница!.. Все должно мне принадлежать, а вам довольно и объедков!.. Что ты там из себя недотрогу корчишь? Вот захочу: раз, два, три!.. И готово!.. Да ты, может, особое наслаждение чувствовал, когда ее, одуревшую, сбитую с толку, брал!.. Ты не о ней, ты обо мне думал, когда ее раздевал: вот, мол, он, дурак, там где-то любит, боготворит, верит, а я и его любовь, и веру, и божество вот куда!.. Да ты, может, от этой мысли в неистовство входил!..
— Захар, это не так, не то! — закричал Михайлов с отчаянием.
— Молчи!.. Так!.. Я тебя насквозь вижу!.. Долго присматривался, зато теперь вся твоя душа у меня как на ладошке!.. Ты — что?.. Ты в мир пришел раскрашенный, не то что мы — серяки!.. Талант, красавец, тонкая душа! Сверхчеловек!.. Кто это провозглашал, что одна самка нужна животному, а человеку все женщины нужны?.. Ты… Себя-то уж, конечно, человеком считал, не в пример прочим!.. Ты думал, что перед твоим великолепием все ничто!.. Ты думал, что такому, как ты, все дозволено!.. Весь мир только для твоего наслаждения создан… бери — не хочу!.. Тебе и в голову не приходило, что от этого великолепия люди кровавыми слезами плачут!.. Еще бы, раз ты потешиться изволил, так и страдания от тебя все должны за счастье принять!.. Сверхчеловек!.. Нет, врешь, ты такой же, как и все!.. Жизнь и тебя скрутила!.. По живым сердцам никто безнаказанно пройти не смеет!.. Это знай!.. Да теперь и знаешь!
Михайлов молча, шевеля вздрагивающими губами, протянул к нему руку. Арбузов грубо отшвырнул ее.
— Захар!
— Что — Захар?.. Поздно, брат!.. Ты мне всю душу разбил, испакостил, заплевал, а теперь — Захар!..
— Захар!
— А!.. Теперь и ты жалости просишь! Скрутило?.. Не вынес?.. Поздно, говорю!..
Арбузов взглянул в лицо Михайлову и вдруг замолчал: оно выражало муку нечеловеческую.
Некоторое время было тихо. Арбузов исподлобья смотрел на Михайлова, и по лицу его от глаз к губам бегала какая-то судорога. Что-то боролось в нем мучительно.
— Прости! — выговорил Михайлов и взял его за руку.
Арбузов вздрогнул и вырвался. Михайлов опустил голову.
— Да, вот оно… — непонятно, не то жалостно, не то мстительно, выговорил Арбузов. — Этого надо было ожидать!
Михайлов еще ниже опустил лицо.
— Слушай, — заговорил опять Арбузов, — я тебе… я тебе про одного прокурора расскажу…
Он был, очевидно, вне себя и не совсем отдавал себе отчет в том, что и для чего говорит.
— Слушай… вот… когда я еще мальчишкой был, в нашем городке жил один товарищ прокурора… Я его смутно, как сквозь сон, помню… небольшого роста, сухой человечек, лицо как из бумаги… бачки… одним словом — прокурор! Так его у нас и звали: прокурор. Жил он, как все, служил, выпивал, играл в карты, покучивал иногда… Мне отец потом много про него рассказывал!.. Был он человек образованный, начитанный, в нашем захолустье никому не ровня, умный, из тех умов, которые в себя одного верят и всех презирают… Была у него одна манера, за которую его хотя и не любили и боялись, но уважали: что бы о ком ни говорили при нем, непременно прокурор вставит словечко, два, и всегда именно тогда, когда говорят о чем-нибудь хорошем, хвалят за какой-нибудь благородный поступок… Скажет словцо, даже не усмехнется и опять уйдет в себя. И как будто бы ничего особенного и не скажет, а только после этого словечка благородный поступок уже как будто и подмокнет, и даже какой-то дрянью от него понесет!.. Так он забавлялся по-своему, и никто, конечно, не понимал, что это он единственно из гордости, чтобы все унизить, что над ним смеет возноситься!.. И была у этого прокурора одна странность: раз или два в год, а может, и реже, вдруг он, точно с цепи сорвавшись, устраивал страшный кутеж, пьянство, разврат, со всякими гадостями и мерзостями, с тройками, с девками, с битьем зеркал и мазаньем горчицей по лакейским мордам. Такое безобразие устраивал, что после того месяца два все от него сторонились… А он, как ни в чем не бывало, опять сух и приличен, корректен, вежлив, в карты играет… И конечно, забывалось, и все опять прокурора уважали по-прежнему. Только он еще злее усмехался и даже до злости: вот, мол, расстегнулся я перед вами до последней пуговки, всю свою гадость вам на ладошку выложил, а вы — ничего! Скушали!.. Куражился!.. Любимым же его номером во время этих дебошей было вот что: избирал он из публичных девок какую-нибудь одну посмирнее, из благородных, бедностью на эту дорожку сбитых, из тех, которые еще недавно гуляют и еще стыдятся, оскорбляются, надеются из грязи не сегодня завтра подняться… Заметит такую и начинает: