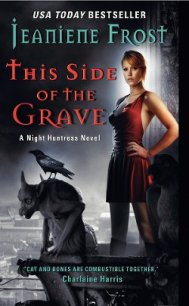Дикая роза - Мердок Айрис (лучшие книги онлайн .txt) 📗
— Да, я бы с удовольствием, если можно.
— Почему же нельзя, — сказала Энн. Она все ещё медлила. — Ну ладно, пора мне идти жечь костер.
Пенн плотно притворил за нею дверь. Он был ещё в том возрасте, когда всякая добыча заманчива. Да и просто разглядеть вещи, принадлежавшие Стиву, было любопытно, захватывающе, до жути интересно. Пенн с малых лет обожал своего незнакомого кузена: старше его почти на два года, тот занял в его мыслях место старшего брата, которого ему при более чем достаточном количестве младших сестер и братьев часто не хватало. Он так мечтал с ним познакомиться во время своей поездки в Англию, которая без конца обсуждалась и без конца откладывалась. Ему уже мерещились какие-то подвиги, которые они будут вместе совершать. Смерть Стива потрясла его. До этого он вообще не задумывался над тем, что люди не вечны.
Он решил начать с книг. Тут его ждало разочарование. Кроме Шекспира и прочего в этом роде, на полках оказалось много книг про птиц, но ни одной про самолеты, пароходы или мотоциклы. Правда, попалась одна книжка про парусные суда. И ещё одна — про автомобили старых моделей. Это могло быть интересно, он отложил её в сторону. Были ещё книжки по альпинизму, но у Пенна от высоты кружилась голова, и альпинизмом он не интересовался. Были книжки для юношества — про школу и приключенческие, но научная фантастика отсутствовала. Были две довольно-таки специальные книги про лошадей, но Пенн — к удивлению и ужасу своих английских родичей, воображавших, что австралийцы с утра до ночи скачут по безбрежным равнинам, — не умел ездить верхом, да и учиться не жаждал, хотя Своны предлагали ему свою лошадку.
А дальше шли учебники — латинские грамматики и все такое. Было, правда, несколько романов в издании «Пингвин», но, похоже, скучные, все про английскую семейную жизнь.
Он обратился к содержимому шкафа. Стив, как видно, не разделял его увлечения всякими электрическими машинами. Ничего электрического здесь вообще не было, если не считать одного поезда _очень_ простой конструкции. Было несколько губных гармошек и несколько дудок разного размера, но к музыке Пенн не питал склонности. Были плюшевые мишки, и прочая недостойная внимания чепуха, и много настольных игр с фишками и костями. Были шахматы, но в шахматы Пенн не играл. Коробка, полная свистулек и фунтиков, сначала заинтриговала его, а потом он сообразил, что это всякие штуки для подражания птичьим голосам. Был ещё хороший электрический фонарь, но батарейка села. В общем, ничего такого, что стоило бы унести с собой как добычу. Под самый конец он снял крышку с большого ящика. Ящик оказался полон оловянных солдатиков — такого количества их Пенн ещё никогда не видел.
Всю жизнь им владела страсть к оловянным солдатикам, которой его небогатые родители не очень-то потакали. Он и сам хотел быть военным, пока не решил, что хочет быть автомехаником или инженером, как он, стыдясь собственной трусости, стал говорить теперь, когда понял, что его английским родичам то слово почему-то не нравится. Не блистая успехами в школе, он обычно получал хорошие отметки по истории, потому что его увлекало все, что касалось оружия, мундиров и военных машин, а к этому незаметно примешивались и ещё кое-какие сведения о том, что случалось на свете. Он стал обследовать ящик.
Черная стража, стрелковая бригада, конногвардейцы, морская пехота, гуркхи, саперы, Второй лейб-драгунский. Он начал расставлять их на полу. Потом одернул себя. Энн сказала: «Ты уже не маленький». Сидя на корточках, он снова посмотрел на солдатиков. Конечно, дома он давно перестал в них играть. Он даже не сердился, когда Тимми и Бобби путали, коверкали и разрознивали некогда милые его сердцу отряды. Он стал укладывать солдатиков Стива обратно в ящик. И тут на него нахлынуло такое волнение, что он, сам не зная почему, чуть не расплакался.
Пенн так давно, так страстно предвкушал эту поездку в Англию — он не то что родителям, даже самому себе не признавался, как трудно оказалось расстаться с домом. Путешествие в самолете и суета приезда, разумеется, утешили его, подбодрили. Но потом пошли сплошные огорчения и разочарования. Ужасно было, когда умерла бабушка. И английские родственники оказались чужими, насколько чужими — этого они, как видно, совсем не понимали. Он, конечно, чувствовал, что все они считают брак его матери не то чтобы неравным, но неудачным, огорчительным. Более смутно чувствовал он и то, что в чем-то обманул их ожидания. Стиву он, конечно, в подметки не годится, это он и сам готов был признать. И если иногда ему казалось, что дядя Рэндл определенно его невзлюбил — что ж, это, пожалуй, естественно, ведь он живой, а Стив умер.
Он был не в обиде на то, в чем сами они больше всего себя упрекали, — что его не отдали в школу. Пожалуй, это было даже к лучшему: английская школа в первую очередь связывалась у него с мыслью, что его будут бить — переживание небывалое, от которого заранее сжималось сердце. И ничего, что он без дела слоняется в Грэйхеллоке — он умел занять себя лучше, чем они воображали, — хотя жалко будет уехать, почти не повидав Англии. Но его угнетал окружающий пейзаж, который они считали таким красивым, которым постоянно восхищались вслух, вместо того чтобы принимать его как должное. Ему не нравилось, что все тут такое маленькое, картинное, кричаще зеленое, противно мокрое. Он тосковал по огромному загорелому воздуху, по сухим просторам и пыли; тосковал даже по колючей проволоке, рифленому железу и бидонам с горючим; страшно тосковал — сам этому удивляясь, — оттого что рядом не было незаселенных далей, не освоенных человеком пространств.
Он не умел, и это его больше всего огорчало, приспособиться к своей английской родне. Дедушка и Энн, безусловно, хорошо к нему относятся, и он их очень любит, но понять их невозможно. Все у них не как у людей. Куда это годится, что даже Энн, такая добрая, не может обращаться с Нэнси Боушот как с равной? Это проявление классовых предрассудков, которое Пенн мог наблюдать изо дня в день, так его бесило, что он держался с Нэнси подчеркнуто дружелюбно и по-товарищески, пока не догадался, что она толкует это как заигрывание. В испуге он отступил, после чего в их отношениях появился холодок. Это было очень обидно.
Напряженные, неустойчивые отношения между Рэндлом и Энн, к которым он был вовсе не подготовлен, тоже служили постоянным источником болезненного недоумения. После своей шумной, говорливой, дружной семьи было дико видеть, что двое женатых людей могут вот так жить под одной крышей — холодные, таинственные друг для друга — и молчать. Рэндл вот уже десять дней, с тех самых пор как они вернулись из Лондона, не выходил из своей комнаты, и никто, казалось, не видел в этом ничего странного. Энн не бегала к нему, не уговаривала. Она как будто решила: хочет сидеть один — пожалуйста. Да у них дома, если бы кто-нибудь вел себя так ребячливо, его бы просто высмеяли и вся дурь бы соскочила. Все это так нерационально, думал Пенн, мысленно употребляя любимые осудительные словечки своего отца. Но когда он представлял себе, как Рэндл, мрачно насупившись, сидит целыми днями один, его пробирала дрожь. Он боялся своего дядюшки.
Сидя на полу в комнате Стива в мокром зеленоватом свете перед ящиком с солдатиками, он с тоской вспоминал родной дом — чудесный новенький коттедж в Марино, с разноцветной крышей, в тени огромного сухого, шелестящего эвкалипта, — такой чистый, легкий, современный, полы из дорогого дерева джарра, в саду полно лимонов и персиков. Они поселились там всего год назад, когда отец получил повышение по службе, и он ещё не привык к этому чуду. Раньше они жили в Майл-Энде, ближе к Порт-Аделаиде, и только на субботу и воскресенье уезжали в свою хибарку в Виллунга. Теперь праздник длился всю неделю — половину пространства занимало море, внизу был белый песок, над головой — тенистый эвкалипт, а по утрам их будили своими криками попугаи и кукаберры. Да, вот это местечко!
Водворяя в ящик новую горсть солдатиков, он разглядел сквозь просветы между сваленными как попало фигурками, что на дне ящика есть что-то еще. Он выложил их обратно, столько, чтобы можно было просунуть руку. Извлек он на свет очень красивый современный кинжал, военный кинжал, не какую-нибудь игрушку. Кожаные ножны, с которых свисали две цепочки, были темные, мягкие — клинок вынулся из них без усилия, с легким свистом. Он блестел как зеркало, был ужасающе острый. Вот это сокровище, вот это настоящая добыча! Пенн поднялся и, замирая от восторга, потрогал пальцем лезвие и острие. Потом стал разглядывать рукоятку. Черная, с богатой инкрустацией, а на конце в кружке маленькая белая свастика. Наверно, это было оружие какого-нибудь немецкого офицера. Пенн выпустил его из пальцев, и кинжал, трепеща, вонзился в пол у его ног. Он снова вложил его в ножны и сунул в карман. Предмет в высшей степени зловещий, просто восхитительный.