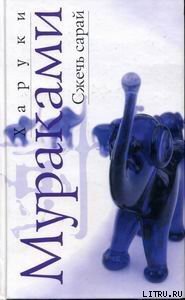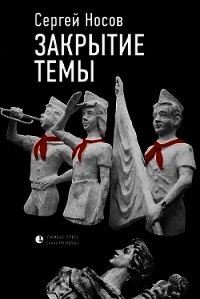Грачи улетели - Носов Сергей Анатольевич (читаем бесплатно книги полностью .txt) 📗
Тепин был ассистентом Катрин, единственным зрителем и партнером.
В определенные промежутки времени Катрин ощущала двоякость собственного бытия: 1) жизнь как жизнь в обычном понимании слова (непрерывный процесс), 2) жизнь как перфоманс, как экспромт, как произведение актуального искусства, с необходимостью выражаемое, согласно технике, освоенной Катрин, через реестр поступков (дискретный процесс).
Тепин по прямоте своей называл этот реестр то отчетом, то протоколом, то репортажем. Он весьма упрощал.
В эти промежутки времени жизнь Катрин принадлежала не только Катрин, но и всему миру. В частности, разумеется, Тепину, но лишь как одному из многих…
29. Любовь на полу.
171. Любовь в огороде.
265. Секс.
(Без уточнений.)
– А почему не написала с кем?
– В данном случае это непринципиально.
Впрочем, Тепину, по его разумению, сама Катрин принадлежала вдвойне: в частном порядке любовной связи и как зрителю всего художественного проекта (тем более первому).
Отвечая за свои поступки, Катрин утверждала данным проектом незыблемость идеи авторства. В лице Катрин автор не мог умереть, ибо одновременно был и творцом, и материалом.
– Всю жизь в деревне прожила, а петуха зарубить не умею. Мы с бабой Машей все Матвеича просили, так ведь он помер зимой еще.
Из любви к искусству Дядя Тепа мог бы, пожалуй, зарубить, но не ради супа, не ради еды. Только так: из любви к искусству. К современному искусству.
На чердаке дома Тепин обнаружил большую, пропахнувшую ванилью коробку, набитую книгами и журналами. Журналы были “Наука и жизнь” за 1977 год, а книги по большей части отвечали школьной программе. Достоевский, Лермонтов, Есенин – по-видимому, дочь Ляпина должна была читать на летних каникулах. Дядя Тепа извлек из коробки потрепанных “Идиота” и “Преступление и наказание”, задумался. На “Идиоте” как будто резали хлеб – вся обложка в царапинах. Решил: пригодится.
Он сам затеял разговор с Катрин о границах допустимого в искусстве. Когда-то она ему рассказывала об убийстве кота группой актуальных художников. Кота прикончили в тихой Финляндии, не у нас. В среде арт-критиков убийство кота широко обсуждалось, многими осуждалось, в любом случае вызвало интерес, главным образом теоретический, но в чем концепция, Катрин уже вспомнить не могла, – не то Бог умер, а кот жив, не то наоборот. Вопрос так и остался открытым: можно ли проливать чужую кровь? Свою можно, и ее актуальные художники давно проливают – кто член себе отрежет, кто нос, кто размозжит себе голову об загрунтованный холст, расстеленный на асфальте, а вот чужую – свинячью, козлячью, кошачью? Человеческую наконец? Где граница дозволенного? Есть ли она вообще? Кто сказал, что есть? Среди апологий убийц кота были и забавные этологемы, вроде: пусть лучше котов убивают публично, чем людей втихаря.
Что бы ни говорили об акции, о ней говорили, а следовательно, она была успешной.
– Это не моя тема, – сказала Катрин, – я не помню подробность.
Но что удивило Дядю Тепу тогда, эта случайно попавшаяся на глаза газетная заметка из уголовной хроники. Судили одного субъекта – не то водителя, не то строителя – за убийство как раз кота; он кота, причем своего, домашнего, замочил почему-то, а соседи подали в суд. В заметке подчеркивалось, что соответствующая статья УК применяется впервые. Два года дали, ни много ни мало. И вот деталь: субъект сей в молодости не был лишен представлений о возвышенном, о прекрасном, что, кстати, выяснилось на суде, он, видите ли, (отмечалось в заметке) в молодости мечтал стать художником, просто (подразумевалось) художником, с кисточками и палитрой (а каким же еще?), но почему-то не стал. Стал бы художником (следовало читать между строк) и не стал бы злодеем. Шишкин мишек не убивал, и Саврасов грачей не мочил без толку. Дядя Тепа подумал тогда: дурак, не тем художником стать хотел. Был бы актуальным художником, за убийство кота не срок получил бы, а, может быть, грант – на новый проект.
Вот тебе, дяденька, разница между искусством и жизнью.
Катрин своих суждений по данной проблеме не высказывала.
– Моя тема другая. Я сама не буду никого убивать. Но я понимаю интенцию этого жеста.
Иными словами, как практикующему художнику смертоубийственные методы ей были чужды, однако она относилась довольно серьезно к подобным работам как теоретик, как историк искусства.
Тепин заподозрил Катрин в двоемыслии. Принимая историческое убийство свиньи в галерее “Риджина” и тому подобные акции, а также членовредительства известных актуалистов, сама Катрин не желает запачкаться кровью.
– Если надо будет лягушку раздавить, не раздавишь?
– Нет.
– Даже если это работает на концепцию?
– У меня не может быть концепции, которая связана с убийством лягушки.
– И червяка?
– И червяка.
– И мухи?
– И мухи.
– Ну, про мух ты мне не рассказывай. И про комаров тоже.
– Послушай, – сказала Катрин. – Я не позиционирую себя как художник, когда я убиваю муху или комара. Когда я позиционирую себя как художник, я лучше разрешу себя кусать.
– Но почему же ты не протестовала против убийства кота?
– Я не одобряю убийство кота, но если оно стало свершившимся фактом художественной жизни…
– Убийство стало фактом жизни…
– Хорошо: фактом художественной практики… если так, то я должна воспринимать это именно как факт, как событие. Я могу критиковать этот перфоманс, но я должна признавать, что он факт художественной практики. Я признаю. Я считаю, это плохой перфоманс, очень плохой. Но я признаю, что это перфоманс. Я уважаю чужие мнения об этом перфомансе. Если я правильно помню, профессор Савчук сказал: убийство живого кота проблематизирует место его социальной функции… Я не согласна. Но я уважаю его мнение.
– Объясни мне, чем этот перфоманс плох? Я понимаю, что убивать котов нехорошо, но с точки зрения арт-критика, с твоей точки зрения, чем плох перфоманс?
– С точки зрения арт-критика, если тебя интересует мое мнение, этот перфоманс плох этим. Художник – не убийца. И не самоубийца. Некоторые думают по-другому, но я думаю так.
– А можешь ли ты признать, что при некоторых условиях убийство кота будет хорошим перфомансом?
– Я не знаю таких условий.
– Ну, скажем, если кота убили не по концептуальным соображениям, а по приговору. По законному приговору. Пусть жестокому, но справедливому. Разве тогда художник будет убийцей? Он будет – рукой проведения.
– Не понимаю, о каком приговоре ты говоришь? Кто может приговорить кота?
– Допустим, ветеринар. Допустим, кот болеет чем-то таким, что несет угрозу другим котам. Или людям.
– Это очень жестоко, – сказала Катрин.
– Не спорю. Но будет ли это перфомансом, фактом жизни художественной?
– Это плохой перфоманс, очень плохой.
– Чем же это искусство плохое?
– Нехорошее, очень нехорошее, – повторяла Катрин.
– Хорошо, “нехорошее”, но разве не жесточе и не циничнее убивать ни за что? Ради красивой концепции?!
– Нет. Как ты говоришь, это циничнее. Это еще хуже, чем то. Еще хуже.
– Почему же убить по необходимости циничнее, чем ни за что?
– Это циничнее, если ты это считаешь искусством. Перфомансом.
– Почему ж не искусство? Если то искусство, то и это искусство.
– Это не искусство, это утилитарное искусство.
– Утилитарное искусство – тоже искусство.
– Когда дизайн. Архитектура. Но по большому счету искусство всегда без полезности, особенно актуальное. Убийство больного кота для общего пользования – это санитарно-гигиеническая мера и только. (Катрин хотела сказать “для общей пользы”; она начинала волноваться.)
– Ты мне сама рассказывала о перфомансе с промыванием желудка. Помнишь? Тоже ведь санитарно-гигиеническая мера.
– Промывание желудка не было как самоцель.