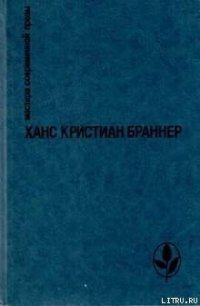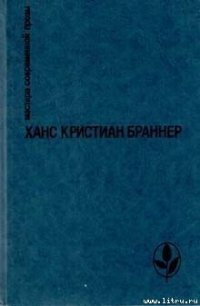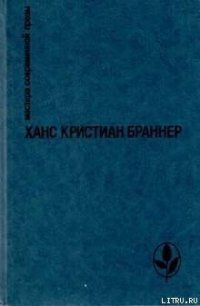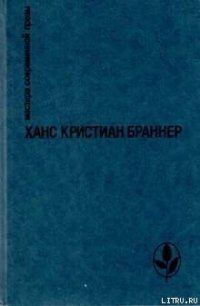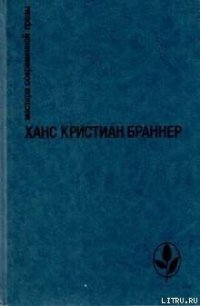Никто не знает ночи - Браннер Ханс Кристиан (полная версия книги .TXT) 📗
Он протянул руку – медленно и осторожно, чтобы демоны ничего не заметили и не пустили в ход свои фокусы. И он их перехитрил. Лицо Томаса осветилось ясной торжествующей улыбкой, потому что он опять увидел движение, увидел, как рука его, точно выслеживающая добычу кошка, крадучись подбирается к стакану. И вот уже… вот…
Звук! Звук чего-то, что упало и разбилось. Он посмотрел вниз – на полу сверкали осколки стекла, темное пятно медленно расплывалось по синему с красным узору каминного ковра. Тут он откинулся на спинку кресла и расхохотался громко и облегченно, потому что Габриэль с Дафной сошли с лестницы и стояли прямо перед его столом по-прежнему в обнимку. Красотка и чудовище, нимфа и сатир. Томас хохотал.
– Что ты, право, Том, – сказал Габриэль. Его доверчивые глаза за роговыми очками были совсем темные, а красный рот в гуще черной бороды принял свое обычное благочестиво-чувственное выражение – с отвисшей нижней губой.
Ну как его такого не полюбить, думал Томас, продолжая хохотать. Он все хохотал и хохотал, потому что в это мгновение по лицу Дафны скользнуло смешное облачко, тень отвращения пробежала по ее неприступно отрешенному луноподобному личику совершенной красоты, а потом… потом она открыла рот, чтобы что-то сказать…
– Не вижу причин для веселья, Мас, – сказала Дафна голоском, похожим на звон серебряного колокольчика.
«Я дурной мальчишка, и Господь Бог гневается на меня. Я дурной мальчишка, и Господь Бог гневается на меня. Я дурной мальчишка, и Господь Бог гневается на меня. Я гнева… то есть Господь дрянной…» Нет, о нет, это же не нарочно, просто, когда повторяешь одно и то же сто раз, тысячу раз, под конец обязательно запутаешься, это же нечаянно, о Господи Иисусе, смилуйся! Но никакие мольбы теперь не помогут, он уже слышит грохот отодвигаемого стула, отец, огромный и костлявый, поднявшись, нависает над ним грозной тенью, рука, ухватив его за локоть, выволакивает из угла, где он стоял на коленях, и тащит опять в ад. Он успевает лишь краем глаза увидеть на стене Иисуса Христа в терновом венце да тесным кольцом сидящих за круглым столом братьев и сестер с понуренными головами, успевает в последний раз ощутить тепло комнаты и тяжелый запах керосина, а когда он пытается задержать взгляд на желтом огоньке висячей лампы, то замечает тонкий язык копоти над верхним краем лампового стекла – предвестие ада, – и потом ноги его, споткнувшись о порог, бухают, бухают тяжелыми глыбами вниз, по подвальной лестнице – у него словно нет ступней, и лишь ухватившая его костлявая ручища удерживает тело от падения. «Прости, ну прости, пожалуйста, – без конца твердит его голос, – прости, я же не виноват, я нечаянно так сказал…» Но он знает: ничто ему не поможет, потому что он говорит неправду, а правда – как раз самое ужасное. Вот они спустились в подвальный коридор; может, он отделается тем, что его отведут в мастерскую с ее холодным темным запахом дегтя и старой обуви и там выпорют ремнем, но нет, так легко он, конечно, не отделается, они уже миновали дверь в мастерскую и подошли к другой двери, решетчатой; ручища отпускает его лишь затем, чтобы отпереть замок. «Прости меня, я не…» – успевает он сказать в последний раз, прежде чем его швыряют в темноту и он грохается ничком на кучу кокса. Тяжелые шаги стихают, он остается один взаперти, и ему вновь предстоит испытать, каков собою ад. К тому же ад с дьяволом. До сих пор он попадал сюда днем, при дневном свете дьявол не мог его найти, а сейчас почти ночь, и ад на этот раз черный, в нем адская темень, ничего не видно, зато дьявол видит все. Но если сидеть тихо и следить, чтобы коке не осыпался, может, дьявол тогда забудет, что он здесь? Да нет, на это надеяться нечего, все равно ведь дьявол слышит шумные, гулкие толчки у него в груди, и вот уже что-то черное задвигалось посреди всей черноты. Он сидит совсем тихо и смотрит прямо в эту черноту – ни к чему закрывать глаза, ни к чему плакать или звать кого-то, это не поможет. Некоторые говорят, что никакого дьявола нет, но это, конечно, неправда. Он есть. Потому что правдой всегда оказывается самое ужасное – и вот уже что-то черное придвинулось к нему вплотную и коснулось его лица…
Симон выкинул вперед руку и наткнулся на ветку с жесткими иголками. Сознание мгновенно прояснилось: пистолет? – на месте, под мышкой; за спиной – стена гаража, прямо перед ним – все те же густые разлапистые елки, раскачиваемые беспрестанными порывами ветра, а в большом белом доме по-прежнему играет танцевальная музыка. Сколько же времени он проспал? Час или всего несколько минут – трудно сказать. Ночь как будто немного просветлела, словно вот-вот забрезжит заря. Нет, не может быть, подумал он, до рассвета, наверное, еще далеко, но это и не лунный свет из-за облаков, потому что ночь безлунная. Ночь, слава тебе Господи, безлунная.
Рана опять дала о себе знать, но не резкой колющей болью, как раньше, а просто сильной пульсацией в ладони. Он провел пальцами по лицу – оно было холодное, мокрое и словно разгладилось от дождя и от сна. У него не осталось ни надежды, ни страха, лишь успокоительная пустота внутри, как у ребенка, проплакавшего так долго, что он уже забыл причину своих слез и сам не понимает, что с ним было. Теперь у него ничего особенно не болело, хотя одежда, отяжелевшая от дождя, стояла колом, все тело было в ушибах, а руки и лицо – порезаны и изранены колючей проволокой, осколками стекла, шипами и бог знает чем еще, и это не считая прежних царапин от…
«Лидия», – сказал он вслух и заметил, что имя ее звучит для него уже по-иному. Таившаяся в нем боль тоже утратила язвящую остроту, окрасившись глубоким покоем неотвратимости. Ибо теперь он знает точно. У него не осталось и тени сомнения: Лидия его выдала. А все остальное значения не имеет. Упоминал он Кузнеца и других из группы или нет – это дела не меняет, она же знает их всех по прежним временам и ненавидит за то, что они втянули его в партию. Ей достаточно о них известно, чтобы без труда обо всем догадаться. Возможно, она просто по пьянке сболтнула со зла лишнее, но от этого не легче, ведь даже если она до сих пор непосредственно на немцев не работала, то теперь-то уж хочешь не хочешь, а придется. Пути отступления отрезаны. Он анализировал ситуацию спокойно и трезво, но одновременно ясно сознавал, что не может выдать Лидию своим товарищам. Не может и все, это исключено. Он застрелит ее, иного выхода у него нет. Ее и себя.
Невесть откуда, издалека, явилась мысль: так и должно быть. Так было всегда. Когда я ее застрелю, подумал он – и вспомнил, как они самый первый раз лежали, прижавшись друг к другу, при свете догоравшего дня и без слов смотрели друг другу в глаза, – когда мы с ней вместе разом умрем, произойдет, в сущности, только то, что все время происходит. Это будет последний акт любви. Для нее и для меня. Его изумила эта мысль и мир, покой, заключенный в ее суровой неумолимости, но он не спрашивал, откуда она явилась. Не о чем было больше спрашивать.
«Но самое главное – не даться им в руки живым, – сказал он, – вернее, ни живым, ни мертвым, но все-таки лучше уж живым, чем мертвым, потому что, если я сейчас умру, некому будет предупредить остальных». Он невольно усмехнулся: сколько можно твердить одно и то же, заладил – как молитву. Кого он молит и какой в том прок? Он и так знает, что этого не случится. Невозможно, чтобы он сейчас умер.
В доме заиграла совсем другая музыка: буйные, размашистые, смешливые ритмы, будоражащие ночь далеко вокруг; неугомонный вой ветра и буйные лапы молоденьких елок подхватили мелодию, и Симон сам не заметил, как вскочил и его голова, тело и ноги задвигались в такт музыке. Невозможно, подумал он, разражаясь смехом, совершенно невозможно! Он продрался сквозь еловый пояс и зашагал по газону к дому, негромко насвистывая. Вот и каменная лестница, поднявшись по ней и пройдя между двух каменных львов – или это сфинксы, а может, тритоны? – он очутился на открытой террасе, перед длинной застекленной верандой. Понимая, что сейчас его темная фигура хорошо видна на фоне белых плиток, он забеспокоился, но забыл об этом уже мгновение спустя, когда длинный луч света птичьим крылом взметнулся над террасой – должно быть, кто-то из танцующих задел штору с той стороны окна. Потом штору поправили, но не до конца – осталась узкая светящаяся щель. Он подкрался на цыпочках к окну и заглянул внутрь.