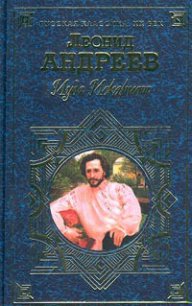Лето в Бадене - Цыпкин Леонид (список книг .TXT) 📗
На следующее утро они прибыли в Базель. В вокзале скопилось много народу, и Анна Григорьевна с Федей никак не могли понять, следует ли им ожидать своих чемоданов, но словоохотливый немец, снова оказавшийся почему-то рядом, объяснил им, что чемоданы прямо доставят в Женеву, — Анна Григорьевна и Федя, державший узелок с книгами, словно князь Мышкин, явившийся в дом к Епанчину, влезли в небольшой омнибус, при этом Федя наступил на ноги каким-то англичанкам, а затем, отдав узелок Анне Григорьевне, побежал снова в вокзал, чтобы все-таки узнать, что будет с их чемоданами, — через несколько минут он снова вернулся в карету и опять наступил на ноги англичанкам — карета катилась по улицам большого города и затем выехала на мост через широкую реку — Анна Григорьевна была приятно удивлена, что река снова оказалась Рейном, — на мосту возле перил стояли два-три пьяных старика и о чем-то спорили, размахивая руками, и это навело Анну Григорьевну на мысль об иллюзорности свободы в Швейцарии, после чего супруги Достоевские прибыли в «Hotel Goldenes Kopf», где и кельнер и носильщики тоже оказались пьяными, в результате чего Анну Григорьевну и Федю приняли за одну семью с англичанами и хотели поселить всех вместе в одной комнате.
Едва устроившись, Достоевские пошли осматривать город, главным же образом собор и местный музей. День был мрачный, поэтому картины были плохо освещены, в особенности же — в соборе. В музее же, хоть света было побольше, все картины, кроме одной, не привлекли особого внимания Достоевских. Эта же одна, написанная Гольбейном-младшим и называемая Анной Григорьевной «Смерть Иисуса Христа», хотя истинное ее название было «Мертвый Христос», имела форму вытянутого в длину прямоугольника и, в отличие от обычных картин, на которых страдающий или мертвый Христос изображался с налетом романтики, являла собой мертвеца, вытянувшегося на белой простыне, словно в покойницкой, с заострившимся носом, с телом истерзанным и измученным, но уже тронутым первыми признаками разложения, которые особенно отчетливо были заметны на лице и на несоразмерно больших ступнях, так что Анна Григорьевна смотрела в ужасе на эту картину, в то время как Федя был в восхищении. Заметив стоявший возле стенки стул, он решительными и быстрыми шагами подошел к нему и, поставив его почти посередине залы, встал на него и впился взглядом в картину — длинная, вытянутая по горизонтали картина висела над самой дверью внутри рогожинского дома на Гороховой — да, именно такая должна была там висеть, и князь Мышкин, видевший эту картину в Швейцарии, должен был сказать именно то, о чем подумал сейчас стоявший на стуле человек: «что от такой картины можно и веру потерять», хотя сам он тогда не видел ни облика купца с маленькими, огненными глазами, сжигаемого страстью к падшей, но гордой женщине — этой вечной героине Достоевского, болезненно разжигавшей его чувства и оттого не способной их утолить, ни облика князя, этого рыцаря печального образа, полу-Христа, полу-Дон-Кихота, страдавшего той же болезнью, что и стоявший на стуле человек, ни облика множества других персонажей и лиц, ни имен, которыми он наделил будущих героев романа и о которых он даже, может быть, еще понятия не имел, ни событий и сцен, которые должны были разыграться, но почему-то картина эта была совершенно отчетливой деталью — первым кристаллом, выпавшим из перенасыщенного раствора, — остальное, пока еще скрытое густым туманом, должно было прийти само собой — с новой силой впился он взглядом в картину — на несколько мгновений она поблекла, даже почти как бы растворилась, и на месте ее появились знакомые лица: красная с рысьим взглядом, плоская с выпуклыми глазами, затем лица тех, кто водил хоровод, а потом, расположившись на вершине горы амфитеатром, указывали на него пальцем и, хихикая, подмигивали друг другу, так что он даже уже хотел сойти со стула, но в следующее мгновенье все они исчезли, и он снова явственно увидел лицо и тело мертвого Христа и услышал фразу о потере веры, сказанную кем-то другим, — и эта мысль должна была стать средоточием романа, и тогда из тумана стали проступать какие-то пока еще неясные предметы, сцены и образы: блеснувший нож — один крестьянин закалывал другого со словами: «Господи, прости ради Христа», — возведя глаза к небу; затем солдат, продавший свой оловянный крест, выдав его за серебряный; слова о Боге простой бабы-крестьянки при виде первой улыбки своего младенца, затем обмен крестами между двумя главными лицами романа; необычно пустынный Летний сад с грозовыми тучами, сгущающимися над Петербургской стороной; снова блеснувший нож где-то в темном коридоре одной из дешевых петербургских гостиниц возле Литейного и короткий взгляд маленьких огненных глаз хотевшего убить, и снова блеснувший в темноте нож, когда его тыкали под белую грудь гордой и падшей женщине, — подошедший служитель потянул стоявшего на стуле за руку, — здесь же рядом стояла Анна Григорьевна, извиняясь за странную выходку ее мужа — она боялась, что с них возьмут штраф, — он сошел со стула покорно, как лунатик, даже как бы и не обратив внимания на то, что его заставили сойти, — он шел рядом с Анной Григорьевной, сначала по музею, чтобы выйти из него, затем по улицам, по которым неслись экипажи и омнибусы, мимо больших домов с зеркальными витринами, навстречу спешащим куда-то людям, ничего не замечая, — он находился на вершине горы, той самой вершине, которая ранее казалась ему недоступной, и с этой вершины ему открывался вид почти на всю планету с ее городами, реками, деревушками, океанами и церквями, со всей ее суетливо идущей и полной трагических противоречий жизнью, — возможно, он находился теперь в том хрустальном дворце, который он с таким упорством проглядывал, пытаясь взобраться на вершину, — они вернулись в «Hotel Goldenes Kopf» и пообедали, затем снова гуляли по вечернему городу, а ночью они заплыли далеко за линию горизонта — движения их были ритмичны, и так же ритмично они дышали, то погружаясь в воду, то сильным движением выталкиваясь из нее, и встречное течение ни разу не снесло его, — за покрытыми снежной пеленой окнами медленно плыли туманные пятна — огни на перроне Московского вокзала, — пассажиры нетерпеливо стояли в проходе с чемоданами и сумками, дверь, ведущая из тамбура, была открыта, и морозный пар врывался в вагон — поезд остановился, — держа в руке чемодан, я вышел вслед за другими на платформу и пошел среди суетящейся толпы приехавших и встречаю-щих по направлению к туманно светящемуся сквозь морозную дымку зданию вокзала — возле соседней платформы стоял фургон, нагруженный большими синими спортивными сумками, из которых торчали хоккейные клюшки — это команда московских динамовцев, игравшая сегодня с ленинградским «Зенитом», возвращалась в Москву на «Красной стреле».
На площади перед Московским вокзалом было почти пустынно — большая часть приехав-ших исчезла в метро, остальные пошли к трамвайной остановке, находившейся слева от площади, то есть фактически уже на Лиговке, и только небольшая кучка наиболее отважных и отчаянных пыталась поймать такси, иногда подъезжавшие к зданию вокзала, — вокруг каждой машины с зеленым огоньком возникал бой — время приближалось к полуночи — в лучах фонарей и прожекторов, освещавших площадь, видны были медленно падающие редкие снежинки, от морозного воздуха слипались ноздри, под ногами поскрипывал снег, а прямо перед площадью проглядывался почти пустынный Невский проспект с двумя цепочками фонарей, постепенно сходящимися вместе и тонущими где-то в ночной морозной мгле, и с редкими движущимися огоньками последних троллейбусов — обходя площадь, я пересек сначала Лиговку — где-то там, за трамвайной остановкой, в темноте, прочерчиваемой лишь едва видимой цепочкой фонарей, чуть в стороне от Лиговки, рядом с Кузнечным рынком, находился обычный серый петербургский дом, в котором жил он последние годы своей жизни и где умер на своем кожаном диване, под фотографией Сикстинской Мадонны, подаренной ему кем-то из его друзей ко дню рождения, и куда-то туда, в темноту, в известный район, ехал на извозчике с нарумяненной женщиной герой бунинского рассказа «Петлистые уши», рассказа, который почему-то рассматривается литерату-роведами как антитеза «Преступлению и наказанию», — затем я пересек Невский там, где он вливается в площадь, и вышел на улицу Восстания, бывшую Знаменскую — по этой улице он тоже часто ходил, посещая Майкова, жившего здесь, или возвращаясь из редакции или типогра-фии, помещавшихся на Невском, к дому Сливчанского, где некоторое время жил он сам, или к дому Струбинского возле греческой церкви, где тоже он жил позднее, — приезжая в Ленинград, я всегда останавливался у нашей приятельницы, которая жила на Знаменке еще с довоенных времен. Снег поскрипывал под ногами, чемодан не очень отягощал меня, я шел не торопясь, с удовольствием вдыхая ночной морозный воздух, глядя на цепочки фонарей, такие же прямые и ровные, как на Невском, и так же сходящиеся и теряющиеся где-то вдали, — на перекрестке я остановился, пропуская заворачивающий со скрежетом трамвай — два или даже три сцепленных вагона с заиндевевшими окнами, сквозь которые едва проглядывали одинокие тени ночных пассажиров, — дом, где жила наша приятельница, находился сразу за перекрестком, — я вошел в знакомый обшарпанный подъезд, где всегда пахло кошками, а на каменном полу валялись осколки от бутылок после распивания на троих или даже в одиночку, и стал подниматься на третий этаж по крутой каменной лестнице со сбитыми и стоптанными ступенями, скудно освещаемой одной или двумя лампочками, возле высокой, потемневшей от старости двери я позвонил, повернув ручку старинного звонка, но, не услышав движения за дверью, еще раз крутанул ручку звонка — последнее время Гильда Яковлевна стала плохо слышать — наконец за дверью послышались тихие шаги и звук отпираемого замка — в проеме высокой двери стояла маленькая старушка, Гильда Яковлевна, в халате, с морщинистым лицом, ямочкой на подбородке и темными волосами — она регулярно красила их, наверное, с тех пор, как я ее помню, поэтому в моих глазах она никогда не была старушкой, а была Гилей, такой, как я называл ее в детстве, когда мы жили в одном городе, и она была самой близкой подругой моей матери, — нагнувшись, я поцеловал ее в мягкую морщинистую щеку, и она быстро чмокнула меня в ответ, — «Ты на трамвае? Я так и думала, что поезд опоздал. Я уже звонила на вокзал. Какая погода в Москве?» — быстро заговорила она, закрывая дверь изнутри на засов, не слушая моих ответов и следуя за мной в комнату, куда я уже входил как хозяин, — «Я тебе уже постелила. Блинчики разогреть или ты любишь холодные? Есть пирожки из Елисеевского. А мама все еще на диете? Попробуй курицу — это Анна Дмитриевна сварила. Завтра у нас на обед суп с клецками, твой любимый, а на второе — телячьи отбивные. Я еще вчера ходила на рынок. А вы в Москве пользуетесь рынком?» — Небольшой круглый стол был накрыт и уставлен едой, старая продавленная кушетка была аккуратно постелена, а на белоснежной подушке лежала еще и сумочка, — «Гилечка, зачем ты ходила в такой мороз на рынок, а уж с постелью вполне могла меня подождать — неужели обязательно самой нужно было подымать этот тяжеленный матрац?» — я лицемерно укорял ее, а она преувеличенно резким тоном — «Ай, оставь!» — отмахивалась от меня, и нам обоим было очень приятно, — сцена эта повторялась каждый раз, когда я приезжал, — открыв чемодан, я доставал оттуда шоколадный набор и бананы, которые Гиля очень любила, — «Ты с ума сошел!» — говорила она мне, не упустив при этом заметить, что бананы еще не совсем зрелые, — мама моя, зная Гилю, «как свои пять пальцев», как она любила выражаться, каждый раз уверяла меня, что и шоколад, и бананы все равно перекочуют к «маленькой Тане», внучке бывшей закадычной приятельницы Гили, которая, по словам Гили, в свое время сделала очень много для нее, а потом умерла от рака, или к «большой Тане», дочке Гилиного племянника, который развелся с женой, и Гиля чувствовала себя виноватой, потому что жена племянника была племянницей бывшего Гилиного шефа-академика, и в свое время сама Гиля с необычайным рвением способствовала этому браку, или еще кому-нибудь из родственников и знакомых, которых Гиля опекала, хотя справедливости ради следует заметить, что часть бананов Гиля оставляла для себя, а шоколадный набор дарила врачу, который лечил ее, — затем, вынув полотенце, ступая на цыпочках, чтобы не разбудить соседей, я шел в ванную — большую проходную комнату, всю заставленную старой мебелью и корытами, где сама ванная занимала только часть помещения и была отгорожена ширмами, на которых постоянно сушилось белье, так же как и на многочисленных веревках, протянутых через комнату так, что она скорее напоминала собой задник театральной сцены — помимо Гили квартиру населяли одни женщины: две пожилые сестры Хая и Циля Марковна, полные, с крашенными в рыжий цвет волосами, которых я так и не научился различать, тем более что к ним очень часто приходила еще третья сестра, жившая где-то на отшибе, — все они прекрас-но готовили всякие цимесы, шкварки, фаршированную рыбу, пекли пахнущие корицей пироги и струдели, — затем дочь одной из двух сестер — не то Хаи, не то Цили Марковны — Лера, очень полная перезрелая девушка, томившаяся по жениху, но тщательно и даже гордо скрывающая это — в ожидании счастливого жребия работавшая медсестрой на скорой помощи, — она либо спала, либо отсутствовала, и через открытую дверь ее комнаты часто можно было видеть ее кровать, почему-то всегда незастеленную, с огромной пуховой подушкой и небрежно откинутым голубым пуховым одеялом, и, наконец, Анна Дмитриевна, высохшая старушка, когда-то, видимо, красивая и статная, с трясущейся головой и дрожащими руками, помогавшая Гиле в ведении хозяйства, когда-то владевшая всей этой квартирой вместе со своим мужем, бывшим белым офицером, давно выведенным в расход, курившая целыми днями «Беломор» в своей каморке перед постоянно включенным телевизором, никогда не отказывающаяся от рюмочки водки и чрезвычайно преданная советской власти, что вызывало постоянное раздражение Гили, считавшей Анну Дмитриевну непроходимой дурой, — увидев меня, идущего в ванную, Гиля, знавшая мою страсть принимать каждый день душ, предлагала затопить колонку, потому что Анна Дмитриевна еще днем заготовила дрова, принеся их из сарая во дворе, но я решительно отказывался, потому что было уже очень поздно и надо было иметь совесть, а потом после ужина я лежал на диване, который был мне несколько коротковат, так что ноги мои чуть свисали, а под головой мешался диванный валик, но если его убрать, то голова оказывалась неестественно низко, — лежал, укрывшись заботливо приготовленным Гилей одеялом, и читал какой-нибудь взятый мною наугад том Достоевского из старого дореволюционного собрания сочинений, которое вместе с другими такими же старыми изданиями в серых или темно-синих тисненых переплетах с золотом стояли на этажерке — остаток книг, сохранившихся во время блокады, да еще целая библиотека никому не нужных книг по урологии на черных книжных полках вдоль стены в соседней комнате, где в это время укладывалась спать Гиля — она свято хранила эти Мозины книги и так же свято ездила на могилу Мози в день его рождения, смерти или просто так, — он умер на Гилиной кровати уже двадцать с лишним лет назад, вернувшись домой вместе с этой женщиной, которую Гиля называла «она», так что я до сих пор так и не знаю ее имени, — «она» почти не отлучалась из дома и оставалась ночевать на Мозином диване, стоявшем напротив Гилиной кровати, — эта смежная комната имела второй выход в коридор, так что женщина эта могла приходить, не беспокоя Гилю, которая целиком уступила им комнату и жила в столовой, маленькой узкой комнате, в которой обычно помещался я, и спала на этой продавленной кушетке, — Моисея Эрнстовича у нас в семье называли Мозей, потому что так называла его Гиля, — тут была, по-видимому, какая-то немецкая инверсия: Моисей — Мозес — Мозя, да он и учился где-то в Германии, еще до революции, как все евреи, желавшие получить высшее образование, — может быть даже, что и отец его испытал на себе какое-то немецкое влияние, потому что имя «Эрнст» было явно немецким, — Мозя был довольно высоким, подтянутым мужчиной, по-немецки аккуратным, абсолютно лысым, с небольшими усиками и насмешливыми черными глазами, над которыми нависали мохнатые брови, — он был профессором урологии, занимался частной практикой, в молодости прекрасно играл в шахматы, так что получил звание мастера, и вообще считался человеком расчетливым и даже скупым, — Гиле он изменял, по-видимому, давно — еще с моей теткой, которую я упоминал в самом начале и у которой я взял «Дневник» Анны Григорьевны, — во всяком случае, у нас в семье постоянно рассказывали историю о том, как в молодости они втроем поехали отдыхать — Мозя, Гиля и моя тетка — и как они жили все в одной комнате — мама моя называла по этому поводу Гилю мазохисткой, — в тридцать седьмом году Мозя сидел, но благодаря чьим-то хлопотам был вскоре выпущен, — Гиля с захватывающими подробностями часто рассказывала эту историю — как его взяли, как он сидел, и как он возвратился — неожиданно позвонил в дверь поздно вечером, и как она пошла открывать, думая, что это пришли за ней, — оказывается, это был Мозя, — она бросилась к нему, не веря своим глазам, а вместе с ней ее закадычная приятель-ница Эльза, так много сделавшая для нее и почти весь период Мозиной отсидки жившая с ней, а затем назвавшая свою дочь Тильдой в честь Гили, — Эльза была верным другом дома, и Мозя первый обнаружил у нее рак груди, хотя был урологом, — женщина, с которой Мозя вернулся домой и которую Гиля называла «она», была его помощницей по кафедре — не то ассистентом, не то лаборантом, — он несколько раз уходил к ней на длительный период времени, и тогда Гиля приезжала к нам из Ленинграда, и они с мамой долго обсуждали создавшуюся ситуацию, а потом как-то Мозя приехал к нам и мама стала ему вычитывать за все, на что Мозя сказал: «Вы еще не знаете Гилю», — и эта Мозина фраза часто повторялась в нашей семье, мамой — с возмущением, а теткой — философски, потому что она вообще широко смотрела на жизнь и часто любила повторять толстовскую фразу: «Люди как реки», — за период своих странствований от Гили к этой женщине и обратно Мозя получил два инфаркта, а после третьего приехал умирать домой, но эта женщина не оставляла его, и Гиля готовила еду для них обоих, и только в день смерти женщина эта отлучилась и не пришла к вечеру, а к ночи ему стало плохо, не хватало воздуха, он попросил Гилю помочь ему встать, чтобы сделать несколько шагов по комнате, — ему казалось, что ему станет легче, — и Гиля помогла ему встать, и, опираясь на нее, он сделал несколько шагов по направлению к своему письменному столу, на котором до сих пор лежат его книги и стоит его фотография, где он чем-то напоминает немецкого профессора со своими аккуратными усиками и проницательным взглядом, — в эти несколько последних минут его жизни они с Гилей были вдвоем в своей квартире, как в былые времена, и на секунду Гиле показалось, что никакой женщины не было и что весь этот последний период ее жизни — это просто дурной сон, а сейчас она помогает своему больному мужу пройтись по комнате, и что все это естественно, и как могло быть иначе, но ему стало хуже, и он попросил проводить его до кровати — Гиля помогла ему улечься, на лбу его выступил холодный пот, дыхание остановилось, и Гиля сама закрыла ему глаза в их собственной квартире, на ее кровати, в отсутствие этой женщины, которая непонятно по какому праву жила здесь и пользовалась услугами Гили, не прогонявшей ее, чтобы не огорчить Мозю, — в общем, он умер на ее руках, как положено умереть законному мужу, и это давало ей некоторое утешение во все последующие годы ее вдовства, так что она даже любила рассказывать, как он умер на ее руках, — свет от старинной настольной лампы с зеленым абажуром — бывшей Мозиной лампы, постоянно стоявшей на его письменном столе, падал на страницы книги, которую я читал, — Гиля сама приносила мне эту лампу и ставила на край обеденного стола, но оттуда свет не достигал книги, и поэтому я переставлял лампу на стул возле изголовья дивана, подложив под нее стопку книг, — лампа стояла не слишком устойчиво, и я боялся, что она упадет на пол и зеленый абажур разобьется, хотя и был уверен, что Гиля ничего не сказала бы мне, — круг света, падавший на книгу, колебался — это на улице проносился трамваи и дом чуть-чуть дрожал и трясся, хотя был очень старым и устойчивым, — в соседней комнате Гиля еле слышны-ми глотками запивала снотворное, а затем гасила свет над своей кроватью, — «Ты все еще увлекаешься Достоевским?» — спрашивала она меня и, не дождавшись ответа, тут же добавляла: «Не говори только об этом у Бродских», — Бродский был бывшим ее шефом, и хотя она давно уже не работала, но все еще продолжала поддерживать дружеские отношения с ним и со всей его семьей, в особенности же с его женой, Дорой Абрамовной, сухощавой энергичной женщиной, командовавшей не только всей многочисленной семьей, но даже организационно-научными делами сектора, который возглавлял Бродский, — Бродские отмечали все еврейские праздники, не ели трефного и много лет уже собирались уезжать в Израиль, но сыновья Бродского работали на какой-то секретной работе, а сам он как академик боялся излишнего шума, который мог подняться вокруг его имени, — в этот вечер, лежа на продавленном коротком диване, слушая убаюкивающий скрежет ночных трамваев, заворачивающих на углу возле Гилиного дома и затем вихрем уносив-шихся по ночной заснеженной улице, мотаясь из стороны в сторону, как это всегда бывает с пустыми быстро идущими вагонами, куда-то вдаль, где в морозной ночной мгле сходились цепочки фонарей, я листал в слегка колеблющемся круге света, падавшем от лампочки под зеленым абажуром, предпоследний том Достоевского, в котором был опубликован «Дневник писателя» за семьдесят седьмой или семьдесят восьмой год, — наконец-то я натолкнулся на статью, специально посвященную евреям, — она так и называлась: «Еврейский вопрос», — я даже не удивился, обнаружив ее, потому что должен же он был в каком-то одном месте сосредоточить всех жидов, жидков, жиденят и жидёнышей, которыми он так щедро пересыпал страницы своих романов — то в виде фиглярствующего и визжащего от страха Лямшина из «Бесов», то в виде заносчивого и в то же время, трусливого Исая Фомича из «Записок из Мертвого дома», не брезгавшего одалживать под большие проценты своим же, из каторжников, то в виде пожарного из «Преступления и наказания» с «вековечной брюзгливой скорбью, которая так кисло отпечата-лась на всех без исключения лицах еврейского племени», и с его вызывающим смех произноше-нием, которое воспроизводится в романе с каким-то особым, изощренным удовольствием, то в виде жида, распявшего христианского ребенка, у которого он затем отрезал пальцы, и наслаждаю-щегося муками этого дитяти (рассказ Лизы Хохлаковой из «Братьев Карамазовых»), — чаще же всего в виде безымянных ростовщиков, торгашей или мелких жуликов, которые даже не выводят-ся, а просто именуются жидками, а еще чаще в виде имен нарицательных, подразумевающих самые низкие и подлые черты человеческого характера, — ничего удивительного не было в том, что автор этих романов где-то в конце концов высказался на эту тему, представив наконец свою теорию, — однако никакой особой теории не было — были довольно избитые антисемитские доводы и мифы (не устаревшие, между прочим, и по сей день): о переправке евреями золота и бриллиантов в Палестину, о мировом еврействе, которое опутало своими жадными щупальцами чуть ли не весь мир, о нещадной эксплуатации и спаивании евреями русских людей, что делает невозможным предоставление евреям равных прав, иначе они совсем заедят русского человека, и т.д. — я читал с бьющимся сердцем, надеясь найти хоть какой-нибудь просвет в этих рассуждени-ях, которые можно было услышать от любого черносотенца, хоть какой-нибудь поворот в иную сторону, хоть какую-нибудь попытку посмотреть на всю проблему новым взглядом, — евреям разрешалось только исповедывать свою религию и более ничего, и мне казалось до неправдопо-добия странным, что человек, столь чувствительный в своих романах к страданиям людей, этот ревностный защитник униженных и оскорбленных, горячо и даже почти исступленно проповеду-ющий право на существование каждой земной твари и поющий восторженный гимн каждому листочку и каждой травинке, — что человек этот не нашел ни одного слова в защиту или в оправдание людей, гонимых в течение нескольких тысяч лет, — неужели он был столь слеп? или, может быть, ослеплен ненавистью? — евреев он даже не называл народом, а именовал племенем, словно это были какие-то дикари с Полинезийских островов, — и к этому «племени» принадлежал я и мои многочисленные знакомые или друзья, с которыми мы обсуждали тонкие проблемы русской литературы, и к этому же «племени» относились Леонид Гроссман, и Долинин (он же Искоз), и Зильберштейн, и Розенблюм, и Кирпотин, и Коган, и Фридлендер, и Брегова, и Борщевский, и Гозенпуд, и Милькина, и Гус, и Зунделович, и Шкловский, и Белкин, и Бергман, и Соркина Двося Львовна, и множество других евреев-литературоведов, ставших почти монополи-стами в изучении творческого наследия Достоевского, — было что-то противоестественное и даже на первый взгляд загадочное в том страстном и почти благоговейном рвении, с которым они терзали и до сих пор терзают дневники, записи, черновики, письма и даже самые мелкие фактики, относящиеся к человеку, презиравшему и ненавидевшему народ, к которому они принадлежали — нечто, напоминающее акт каннибализма, совершаемый в отношении вождя враждебного племени, — возможно, однако, что в этом особом тяготении евреев к Достоевскому можно усмотреть и нечто другое: желание спрятаться за его спиной, как за охранной грамотой — нечто вроде принятия христианства или намалевания креста на двери еврейской квартиры во время погрома, — впрочем, не исключена здесь и просто активность евреев, которая особенно велика в вопросах, касающихся русской культуры и сохранения русского национального духа, что, впрочем, вполне увязывается с предыдущим предположением, — за окном уже не слышно было трамваев, свет я давно погасил, осторожно поставив Мозину лампу на обеденный стол — в соседней комнате деликатно похрапывала Гиля — десять дыханий и один маленький всхрапик — чуть-чуть, даже как будто она не храпела, а всхлипывала во сне, ноги мои чуть свисали с дивана, а за окном лежала непроглядная зимняя петербургская ночь, и, хотя было очень поздно, до рассвета оставалась еще целая вечность — можно было спокойно лежать и не думать о том, что обязательно надо заснуть, потому что скоро рассвет, — одинокая фигура в узких клетчатых брюках, в черном цилиндре и в черном берлинском сюртуке, с карманами, оттопыренными от бутербродов, и с развевающимися фалдами бежала по заснеженной платформе какой-то железнодорожной станции, промежуточной между Баденом и Базелем, подпрыгивая, приседая, выделывая какие-то нелепые «па» и выкрикивая что-то насчет одного недоданного франка, но поезд давно уже ушел и наступи-ла ночь, а человек все бежал и бежал, подпрыгивая и приседая, ярко высвечиваемый прожектором, который неотступно следовал за ним, словно все это происходило на театральной сцене, и в снопе яркого света медленно кружили и падали снежинки, покрывая его лицо и бороду белой пеленой, — платформа кончилась, и он бежал теперь по канату, натянутому под куполом цирка, и белая пелена, покрывавшая его лицо, была маской Арлекина, из-под которой клочьями торчала его седая борода, — сняв с головы цилиндр, он подбрасывал его вверх и ловил на лету, приседая и выделывая невозможные «па», а снизу из первого ряда за выплясывающей по канату фигурой, освещаемой прожектором, неотступно следил человек с крупной головой, львиной гривой и холеной бородой, приставив к глазам холодно поблескивающий лорнет, выплясывающий и жонглирующий своим черным цилиндром человек в маске Арлекина старался именно для того, сидевшего в первом ряду, — остановившись на канате, он поочередно задирал вверх то одну, то другую ногу, словно опереточная актриса, подбрасывая в этот момент свой цилиндр особенно высоко, под самый купол цирка, так что падение выплясывающего на канате казалось неизбеж-ным, но лицо следившего за ним человека оставалось непроницаемым, и только на дне глаз его за холодными стеклами лорнета иногда вспыхивали задорные искорки, обозначавшие поощрение, но только когда выплясывающий сорвался с каната и полетел вниз, выделывая в воздухе отчаянные пируэты, лицо человек с крупной головой и львиной гривой озарилось улыбкой — очарователь-ной, барской, хотя и несколько высокомерной, — сняв лорнет, он смеялся и поощрительно аплодировал, — упавший с каната снова бежал по заснеженной платформе, но это была уже не промежуточная станция между Баденом и Базелем, а Тверь, лежавшая между Москвой и Петербургом, — с развевающимися фалдами бежавший по платформе жадно ловил каких-то проезжих сановников, вышедших из курьерского поезда, чтобы немного поразмяться и подышать воздухом, — он метался от одного сановника к другому, жадно ловил их руки и их взгляды, униженно просил о чем-то и кланялся — сановники исчезали в вагоне первого класса, и вот он уже снова бежал за поездом — платформа переходила в лестницу, которая вела в игорные залы, — он поднимался по ступенькам мраморной лестницы, устланной ковром, не торопясь, пренебрежи-тельно глядя на всяких полячков и жидков, мельтешивших перед его глазами, — сам Ротшильд был ему нипочем, потому что через несколько минут он будет, может быть, богаче самого Ротшильда — этого жида-скряги, нажившего свои миллионы ростовщичеством, между тем как он добудет эти миллионы одним лишь счастливым стечением обстоятельств, которые он может предугадать, да ему ведь и не миллионы важны, а идея, — он небрежно проталкивался через толпу любопытных и играющих, этих жалких и жадных шутов, заносчиво глядя на их желтые, иссушенные нездоровой страстью лица, — с первой же ставки он выиграл полмиллиона, потом еще миллион, но кто-то больно дернул его за руку — человек с плоским, словно корыто, лицом и оттопыренными ушами нагло смотрел на него, и под взглядом его выпуклых водянистых глаз он неожиданно осел на пол, затем пополз на четвереньках к выходу, покатился по лестнице, ударяясь о ступеньки, не чувствуя боли, потеряв свой цилиндр, — он подошел к большому зеркалу, висевшему в вестибюле вокзала, чтобы привести себя в порядок, но вместо себя увидел в зеркале фигуру Исая Фомича, раздетого, щуплого, с цыплячьей грудью, — он отшатнулся — отшатнулся от него и Исай Фомич, — тогда он стал бросать в Исая Фомича бутерброды, которыми он набил свои карманы на той станции, где он пронзительно закричал о недоданном франке голосом ограбленного ростовщика, заглушая свисток паровоза, но чем больше забрасывал он бутербродами Исая Фомича, тем отчетливее и живее выступала его тщедушная фигура, — когда я проснулся, было еще темно, из двери, ведущей в коридор, приятно потягивало папиросным дымком — это Анна Дмитриевна, встававшая обычно в шесть утра, курила в своей комнате первую «беломори-ну», затем осторожно хлопнула входная дверь, — наверное, это Лера уходила на дежурство или возвращалась после ночи, в доме напротив почти во всех окнах светились огни и за занавесками мелькали тени встающих и спешащих на работу людей, в кухнях суетились хозяйки, а внизу как-то по-особому, по-утреннему скрежетали на повороте трамваи, а затем с постепенно затихающим грохотом проносились мимо дома, уносясь куда-то в беспредельную прямоту темных улиц со сходящимися где-то вдалеке цепочками фонарей, — дом вздрагивал и колебался, словно пароход, стоящий возле причала, в соседней комнате деликатно всхрапывала Гиля, — когда я снова проснулся, было уже светло, только как-то серо, и за окном медленно кружились снежинки — в коридоре слышались осторожные шаги и даже голос Гили, которая, по-видимому, давала какие-то хозяйственные указания Анне Дмитриевне, — дотянувшись рукой до стула, я посмотрел на часы — было половина одиннадцатого — позднее зимнее петербургское утро, — натянув на себя тренировочный костюм, я подошел к окну — внизу ползли покрытые снегом трамваи и автобусы — трамваи трехвагонные, автобусы тоже какие-то необычные, больше похожие на туристические или дальнего следования, по противоположному тротуару спешили прохожие, в основном — домохозяйки, закутавшись в платки, в старых потертых шубах и с сумками в руках, а в окнах дома, расположенного напротив, такого же старого и обветшалого, как дом, в котором жила Гиля, кое-где светились окна, потому что в разгар петербургской зимы настоящего дня так и не бывает — поздний рассвет незаметно переходит в ранние сумерки, — в комнату вошла Гиля в своем халате и в ночных туфлях без чулок — ноги у нее были белые, с полными икрами, и я подумал, что когда-то в молодости она, наверное, вполне могла устраивать Мозю, — «Как ты спал?… Что будешь кушать?… Может быть, хочешь принять душ?… Когда ты встаешь в Москве?…» — она засыпала меня вопросами, на которые я не успевал отвечать, — впрочем, ответов моих она все равно не слушала — идя в ванную, я невольно заглянул в Лерину комнату через приоткрытую дверь и увидел постель с пышными подушками и перинами — вполне возможно, что Лера спала после ночного дежурства, утонув в этих перинах, — тренировочный костюм плотно облегал меня, и, умываясь над ванной, я медлил, надеясь встретить ее в коридоре, из кухни аппетитно пахло чем-то не то жареным, не то печеным и слышались голоса — не то Цили, не то Хаи Марковны, а может быть, их обеих и Анны Дмитриевны — кухня в Гилиной квартире была просторной даже для четырех хозяек и в дальнем углу ее находилась дверь, ведущая на черную лестницу и закрывавшаяся на ночь огромным крюком, похожим, наверное, на тот крюк, на который закрывалась дверь в квартире старухи-процентщицы из «Преступления и наказания», а потом мы с Гилей завтракали — стол был сервирован какой-то благородной посудой, хлеб был нарезан тонко, на тарелках лежали сыр, ветчина — Гиля суетилась, подставляя мне то одно, то другое блюдо, в комнату то и дело входила Анна Дмитриевна, с папироской во рту, сильно согнувшаяся за последние годы, неся в дрожащих руках то белую сковородку со специально взбитой для меня на сливках яичницей, то кофейник, — «Уж как ждала-то вас Гильда Яковлевна», — говорила она своим низким, прокуренным голосом и лукаво поглядывала на Гилю, суетившуюся вокруг стола, — «Сама на рынок пошла за телятиной, в такой-то мороз, мне не доверила», — голова ее тряслась, что придавало ей еще более укоряющий вид, — «Ах, бросьте, Анна Дмитриевна! Я всегда хожу на рынок. Ты будешь есть на обед жареную картошку или тушеную?» — «Конечно жареную», — говорил я, — «Я так и думала», — говорила Гиля тоном, полным особого значения, словно она разгадала мое заветное желание, которое я тщательно скрывал, — Анна Дмитриевна, тряся головой «Нет-нет» или «Да-да» со снисходительной улыбкой на лице, обозначавшей беззаветную преданность Гиле при сохранении своего особого мнения, которое ничем не могло быть поколеб-лено, захватив освободившуюся посуду, по-прежнему с папироской во рту, не торопясь уходила из комнаты — после завтрака, усевшись на бывший Мозин диван, мы с Гилей долго беседовали: Гиля расспрашивала меня о моей работе, об общих знакомых, рассказывала о своем бывшем шефе, об отношениях между его племянницей и ее племянником, который после развода с ней обзавелся новой семьей, и хотя она, Гиля, ничего против его новой жены не имеет, но она к ним туда ногой не ступит и не примет у себя, тем более что эта женщина была близкой приятельницей первой его жены, то есть племянницы Гилиного шефа, и не выходила буквально из их дома, и сама вешалась ему на шею, а Роня (так звали первую жену племянника Гили) ничего не замечала, и просто удивительно, как это она ничего не замечала, когда все, буквально все видели, что эта женщина сама вешалась ему на шею, — в когда-то карих, а теперь выцветших добрых Гилиных глазах неожиданно вспыхивали злые искорки