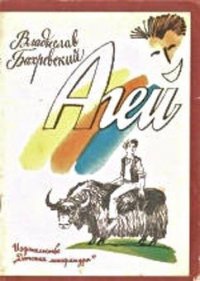Боярыня Морозова - Бахревский Владислав Анатольевич (читаемые книги читать .txt) 📗
– Аще коли так, возьми и тую. – Глаза царя стали, как ртуть, тяжелые. – Пусть пых-то свой охладят! Всякая курица мне будет на царя кудахтать.
Коршуном налетел Иоаким на гнездо, отданное в его власть. Устроил сыск и допрос комнатных слуг, поварни, дворни. Всякая власть страшная, а когда царь брови сдвинул – вьюном крутись, коли жизнь дорога.
Дворня, сенные девушки, стряпухи, карлы, жившие на покое, – все перед архимандритом крестились, складывая три перста, читая молитву, двоили первую буквицу: Иисус, Иисус, Иисус!
Диакон Иоасаф показал Иоакиму на Ксению да на Анну. Они, как завороженные, держали подсвечники.
– Ваш черед исповедаться, – сказал служанкам Иоаким.
Сначала Ксения, потом и Анна положили на себя крестное знамение, как от праотцев заповедано.
– В сторонку станьте. Особь от людей, Богу и государю послушных! – сказал им архимандрит.
Тут из дворца Иван Глебович со службы вернулся.
Иоаким испытывать стольника посчитал неуместным. Обронил однако:
– Дом, бывший в великой почести, сосед государевым палатам, – хуже пепелища, коли на него пал гнев великого царя.
Боярыня, помертвелая, возлежала на пуховике, чуждая всему, что вокруг нее делалось. Иоаким встал над нею, как черная туча.
– Не умела жить покорно, прекословием себя тешила! Слушай же царское повеление: самодержец указал отгнати тебя от дома твоего. Полно тебе, враждой к тишайшему монарху упившейся, жити на высоте. Сниди долу. Довольно разлеживать на перинах, иди отсюда прочь! На солому!
Федосья Прокопьевна лежала бесчувственной колодой. Иоаким смутился – тащить придется рьяную супротивницу. Дьякон Иоасаф надоумил. Слуги посадили боярыню в кресло. Понесли из дому. Иван Глебович постоял-постоял, пошел следом. До среднего крыльца проводил. Поклонился спине материнской, наперед забежать, в глаза посмотреть… не посмел.
– Ах, Иванушка! – только и сказала княгиня Евдокия: ее приставы под руки вели.
Доставили сестер в подклеть, в людскую. Обеим возложили на ноги, на щиколотки, конские железа, цепями сковали.
В оковах
Злое ликование повергало Алексея Михайловича в тупое бездействие. Боярыня Морозова, княгиня Урусова – на цепях сидят! Федосья, супротивница, царской свадьбой пренебрегла, новой царице презрение выказала – поделом страждет, а вот сестрица-то ее Наталье Кирилловне служила с подобострастием, словно бы за двоих. Урусов теперь глаз не смеет поднять, когда за столом служит. За дуру свою стыдно.
Алексей Михайлович посылал к патриарху Иоасафу Артамона Сергеевича: патриаршее дело следить, как у него народ крестится.
Святейшего одолели многие немочи, но говорил с Артамоном Сергеевичем ласково. Давно ли, подобно кресалу, лупил по староверам, так что искры сыпались, и вот изнемог, почуял ангела в изголовье – лепечет, как дитя: жалеть, мол, надобно заблудших. И плачет, плачет. Не дождался Алексей Михайлович поддержки от святейшего Иоасафа.
Горько жаловался великий государь ближайшему слуге своему:
– Погляди, что делается, Артамон! Все на меня! Разве не пастырское дело печься о послушании, о кротости?.. Не они ли, черноризцы, должны обуздывать неистовых?
– Все так, Тишайший! Да ведь один чудовский архимандрит посмел допрашивать – Морозову! Урусову!
– Никона бы! Уж он-то не цацкался бы ни с Рюриковичами, ни с Гедиминовичами, – брякнул царь и поглядел на Артамона Сергеевича.
Тот, не моргнув глазом, посоветовал:
– Отдай ты сестриц митрополиту Павлу Крутицкому на дознание. Павел – пастырь суровый, но терпение у него ангельское.
Два дня в оковах просидели в людской боярыня с княгиней.
18 ноября, на мученика Платона, к сестрам-раскольницам пришел думный дьяк Илларион. Оковы с ног страдалиц приказал посбивать.
– Мне велено, государыни, везти вас в Чудов монастырь.
– Дозволь шубу надеть, – смиренно попросила Евдокия Прокопьевна.
Дьяк разрешил. Принесли шубу и для Федосьи Прокопьевны, а боярыня возьми да повались на лавку.
– Шагу не сделаю!
Илларион понуждать Морозову не посмел, но слугам шепнул:
– Несите свою госпожу хоть на креслах, хоть на горбу.
Слуги догадались взять с лавки красное сукно. Поплыла боярыня, как в люльке. Евдокия Прокопьевна шла сама.
В монастыре сестер разлучили. Евдокию заперли в крохотной келье, Федосью принесли в палату, где ее ждали митрополит Павел, архимандрит Иоаким, из думных – Илларион Иванов да подьячий Тайного государева приказа.
Боярыня соизволила перед дверьми палаты стать на свои ножки. Войдя в палату, сотворила поклоны перед иконой Троицы, а на церковные да светские власти только бровями повела. Тотчас села на лавку у стены.
– Восстань, Федосья Прокопьевна! – сказал ей митрополит. – Ты ответчица, мы есть суд.
– Я не тать, чтобы меня судить. Чужого не брала, зла и в мыслях не держала.
– Восстань, боярыня! Мы – уста великого государя.
– Не вижу я здесь царя.
– Коли перед нами гордишься своим боярством, так мы люди смиренные, – сказал Иоаким. – Но дело-то царское. Встань!
– Не знаю за собой вины. Господь призовет к себе, тогда не токмо встану, ниц кинусь.
– Государя твое упрямство не обрадует! – Митрополит Павел навалился грудью на стол, словно желая придвинуться к боярыне. – Вельможная Федосья Прокопьевна! Ты женщина мудрая, не ради поучения, а во славу Творца напомним и тебе, и себе: Бог есть любовь. Мы к тебе с любовью, Федосья Прокопьевна. Не гнушайся нас. Вся беда, грянувшая на твой дом, – от старцев и стариц, прельстивших тебя, дабы поживиться от щедрот твоих. Довели тебя до сего бесчестия – на судилище приведена. Раскольницы, как осы, упорхнули к иному улью, иных доверчивых и чистых душою ядом своим жалят. Да и зачем много словес: покорись царю и ступай домой, живи, радуйся свету Божьему.
– С великою бы покорностью поклонилась свету государю. Пусть только молится, как молился его дедушка, святейший патриарх Филарет! Как его батюшка, блаженнейший самодержец Михаил Федорович. Как заступник всей земли Русской преподобный отче Сергий со всеми святыми его дивной обители.
– Нет в тебе мира, боярыня. Нет в тебе любви, Федосья Прокопьевна! Но скажи, неужто не дорог тебе Иван Глебович, твой сын? По его имени быть ему с возрастом первейшим среди бояр, но твоя вражда к самодержцу ставит крест на его службе.
– Говорите, что Бог ваш любовь, а любовь в пытку обращаете, в кнут. Вам бы душу исполосовать до крови, владыки!
– Неужто желаешь разорения? – закричал Иоаким. – Государь в единый день отнимет нажитое всем родом Морозовых! За час, за миг сверзишься из боярского достоинства в нищие, в бродяги! И сыну уготовишь то же, что и себе.
Федосья Прокопьевна сидела сгорбясь. Соболья шуба ниспадала на пол, мех темный, как глубь бездонная, а сверху словно бы свет искрами.
– Говорите, прельщена старцами да старицами. Ни! Ни! Поставить вас рядом с ними – ангелы заплачут, а Сатана расхохочется. От тех старцев и стариц – истинных рабов Божиих – аз, грешная, истинному пути Христову и благочестию научилась. И о сыне моем перестаньте расточать хвалы и угрозы. Я Христу, свету, клялась быть верной до последнего моего издыхания. Ради Христа живу – не ради сына.
Митрополит Павел поднялся. В левую руку взял новоизданный «Служебник», правой коснулся иконы Спаса.
– Скажи нам кратко, Федосья Прокопьевна. По сей книге причащаются благоверные царь и царица, царевичи и царевны. А ты? Ты причастишься ли?
Распахнула боярыня глаза.
– Не причащусь! Се книга – Никоново издание. Не хочу душе моей развращения.
– Так как же ты о нас-то всех помышляешь, еретики есмь? Матушка праведная, опомнись!
– Враг Божий Никон своими ересями аки блевотиною наблевал, а вы ныне его скверну подлизываете.
Митрополит рухнул на стул. И тогда взвился Иоаким. Закричал, багровея:
– Что ты, владыко Павел, зовешь безумицу матерью, да еще и праведной? Се не дщерь Прокопия, се не Морозова! Избави Бог! Имя ей – бесовский выродок!