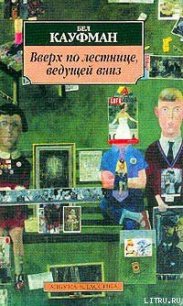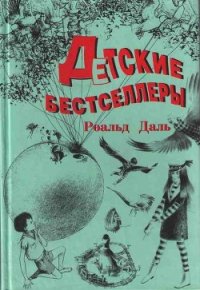Муравечество - Кауфман Чарли (читаем книги бесплатно txt) 📗
— Мне надо выспаться, Чик.
— Карликовые верблюды? Бывают такие? Я сейчас просто набрасываю.
— Обсудим завтра.
— Мне не спится. Кажется, будто я на грани чего-то важного.
— Насколько близко?
— Настолько.
— Ты просто говоришь «настолько». Ничего не показываешь.
— Темно же.
— Не так темно, чтобы я не видел, что ты ничего не показываешь.
— Ладно. Вот настолько.
— Ладно.
Следующий день, и я возвращаюсь к себе в квартиру с жареной свининой на леске удочки. Доминик все еще в дверях. Я болтаю у него перед носом куском свинины для мотивации. Работает. Он высвобождается из двери с хлопком пробки из-под шампанского, хватает свинину, а я проскальзываю между его ног в квартиру, захлопываю дверь и задвигаю двадцать три (двадцать три?) засова. Приваливаюсь к двери с одышкой, пока Доминик колотит и требует его впустить. Не впущу. Больше ноги его тут не будет. Я просижу в этой комнате взаперти, пока он не сдастся и не уйдет.
Стук продолжается днями, с восьмичасовыми перерывами, пока мы оба спим. Я пишу на электронную почту Себастьяно с вопросом, ищет ли он еще жилье. Сейчас его нож боуи меня не так волнует. Ответа я не получаю. Возможно, он уехал.
Даже в уединении среди стен собственной квартиры меня находит мир забавных мучений. Постоянно орет без зримых причин детектор дыма, пока я не замечаю, что курю и что в пепельницах по всей квартире и у меня самого в руках — другие закуренные сигареты. Тушу их, потом залезаю по трем поставленным друг на друга стульям, чтобы вынуть батарейку из сигнализации. Стулья рушатся раньше, чем я достигаю цели, и я падаю, снова угодив головой в мусорную корзину. Со второй попытки получается, потом я снова падаю, но в этот раз с батарейкой в одной руке и по какой-то необъяснимой причине с новозакуренной сигаретой — в другой. На сей раз я угодил головой в стойку для зонтиков в виде слоновьей ноги. У меня даже нет стойки для зонтиков в виде слоновьей ноги. Откуда она взялась? Я встаю, замечаю свое отражение в зеркале в прихожей, все еще со стойкой для зонтиков на голове, будто шляпой тамбурмажора. Мне нужно утихомирить мысли, разум. Нужно прекратить двигаться, перестать быть жертвой обстоятельств.
Из-за необходимости замедлиться в памяти встает ретрит для безмолвной медитации в буддистском монастыре на Бали, куда мы ездили с Чуми — моей девушкой времен колледжа. Она затащила меня против воли, поскольку я не любитель мистики и категорически против надувательских фокус-покусов любой религиозной доктрины, не говоря уже о «таинственном Востоке». Но любовь за (любовь за! Обязательно надо где-нибудь использовать!), и наперекор здравому смыслу мы оказались в прокатных саронгах, которые до нас носил бог знает кто. При всем при этом пережитый опыт изменил меня, смягчил. Притихла постоянная болтовня в гиперактивном разуме. «Вот! — решаю я. — Вот что мне сейчас нужно». Нужно обрести эту тишину. Нужно найти собственный голос в безумии внешнего мира. И я без труда, с легкостью возвращаюсь к дыхательной медитации, которую практиковал там. Прислушиваюсь к голосам в голове: сомнение, насмешка, критика, угрызения совести, странные, даже как будто чужеродные мысли: лущить горох на гороховой ферме в Тунисе, танцевать канкан в «Фоли-Бержере», мое счастливое детство в рабовладельческом семействе хозяев горнодобывающей шахты на Венере. Я слушаю без осуждения и мягко позволяю этим мыслям уйти. И дышу. В таких упражнениях на первый план выходят первобытные эмоции. Я рыдаю. Я стыжусь. Я смеюсь. Я борюсь со своим богом. Я борюсь с соседским хулиганом Антоном Фрикером-Вентуччи. И на протяжении всего этого — я дышу. И замедляюсь. И дыхание становится не таким частым, углубляется. Со временем (кто знает, как долго, ведь время перестало существовать!) я нахожу внутренний центр. Уже не чувствую себя добычей, уже не прижат к стенке. Мир раскрывается с удивительных сторон. Моя цель — выйти в мир, не теряя эту открытость. Я отпираю входную дверь. Каждый замок — квантованный этап единого опыта, на протяжении которого я полноценно присутствую в мире. Тридцать четыре засова. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре. Тридцать пять. Скорее тридцать пять засовов. Символизм этого акта не ускользает от моего внимания теперь, когда я просвещен, но его я отпускаю вместе со всеми другими мыслями, когда поворачиваю и тяну ручку. Вот лежит Доминик, спит как младенец, больше меня не устрашая. Он просто Доминик — омерзительный, зловонный, жирный Доминик, лишь очередное проявление божественного. Я запираю дверь, чтобы он не вошел, перелезаю через него и ухожу. В моем нынешнем состоянии улица стала иной. Я вижу все. Итальянский продавец арахиса на углу, торгующий своим товаром со сладкозвучной речевкой: «Арахис, а-рахис а-на лубой вкус!» Прочее. Затем я в Порт-Ауторити, смотрю на расписание отправки автобусов. На вокзале многолюдно, как всегда, но теперь я его вижу в новом свете. Ангелоглавые пассажиры в хореографии прелестной печали, разбитых мечтаний, сломанных жизней. «Как я сюда попал?» — как будто молят об ответе они.
«Арахис, а-рахис а-на продажу».
Итальянский продавец арахиса, ядерный физик на пути к испытаниям ядерного оружия, домохозяйка из пригорода, на «колесах» и в поисках приключений: они все одинаковы. Все едины. Все — из тех же электронов, протонов и, кажется, ньютонов. Это поистине братство (сестринство) мужчин (женщин, детей), и вот он я, лишь очередная кучка атомов, отскакивающая от других кучек атомов. Тут же чувствую себя одновременно свободным и ограниченным, потому что дуальности нет. И посему я одновременно здесь и не здесь. Одновременно сейчас и тогда. Одновременно афроамериканец («черный») и белый («европеоид»), С этим озарением как будто является возможность сбежать от моего мучителя, кем бы он ни был. Почти как по сигналу загорается табло: последнее объявление об автобусе «Грейхаунд» в Нигде, штат ОК. Нигде, ОК. Нигде — это ОК. Я не знал, чего искал, но теперь нашел.
Автобус в Нигде выезжает из автовокзала на улицу Нью-Йорка — серую, лишенную теней. Возможно, из-за того что я вижу город просвещенными глазами, я его не узнаю. Магазины кажутся другими. «Галантерея»? «Боевые боты Блокмена»? И еще расплывчатость выражений лиц у людей на улице, машин на улице, улицы на улице. Я фокусируюсь на дыхании. Натиск всего вокруг практически ошеломляет. Когда автобус замедляется, а сам я замедляюсь настолько, что перемещаюсь почти на три сиденья назад, я замечаю на улице себя, выходящего из Порт-Ауторити, только выхожу я задом наперед. Вот в чем дело, внезапно понимаю я: всё на улице движется задом наперед. И еще кое-что: в воздухе кишат бегущие капли, словно прозрачная пыльца. Они забираются людям в уши — на вид бессистемно, но так часто, что это не кажется случайностью. Еще я вижу, как эти капли показываются из ушей, словно умножившись в числе, а потом рассеиваются и проникают в другие уши. Автобус следует по улице за другим мной, будто кинокамера на тележке, наведенная на пятящегося двойника. И теперь я настолько близко, что вижу, как эти капли попадают и в уши другого меня и вылетают обратно наружу. Что происходит в этом ужасающем мире за окном автобуса? Что за лавкрафтовский пейзаж мне внезапно предстал?
Я смотрю, как я задом наперед повторяю свой маршрут до Порт-Ауторити, мимо итальянского продавца арахиса, «сукв йобул ан-а сихар-а, сихара», к себе домой. Автобус проезжает мимо. Теперь обратный я пропал из виду, и я быстро теряю интерес — подумаешь, — снова впадаю в свой монолог о бороде. Добавляю новый раздел о разнице между фальшивой и настоящей бородой, кратко касаюсь глагола beard (то есть «смело выступать против»), а также современного сленгового употребления, обозначающего притворное гетеросексуальное партнерство. Что-то вырывает меня из размышлений. Если смотреть за непосредственное окружение, я могу разглядеть другое, сияющее пространство, уходящее в бесконечность, словно трехмерная и не такая карикатурная версия канонической и сомнительно сентиментальной обложки «Нью-Йоркера» от Дэвида Стейнберга. Это красиво и внушает надежду, и я верю, что отправляюсь в новое и грандиозное приключение. Предыдущие трудности и лишения где-то далеко, неважны. Наконец я счастлив.