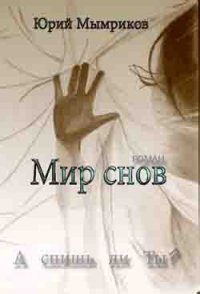Улица Грановского, 2 - Полухин Юрий Дмитриевич (читаем книги онлайн без регистрации TXT) 📗
Но в том-то и дело – возможная.
Я готов был от стыда провалиться. Но Панин заговорил:
– Я тоже не верю, чтоб Саша Ронкин мог убить преднамеренно, рассчитанно… Но не в Михаиле тут загвоздка, смею думать, не в нем. Поэтому и Ронкин прав: ехать сейчас туда мне не стоит. Это только усугубит все. – Он помолчал и вдруг спросил: – Вы помните финальную сцену в «Войне и мире»? Наташа Ростова и это ее бабье, рабское умиление обмаранными детскими пеленками, – помните? Финал этот меня всегда не просто поражал – оскорблял! Ну, пусть Толстой завирать мог в своих исторических, философских концепциях, но ведь когда дело касалось людских характеров, судеб, гениальней его психолога, пожалуй, и не было вовсе! А тут такой нонсенс – Ростова с пеленками! Помните?
Помнить-то помнил я, но никак не мог сообразить, к чему это все Панин сейчас… А он и не ждал моего отпета, говорил:
– А может быть, и в этом случае прав был Толстой? Может, есть тип женщин, у которых физиологически не то чтобы предопределены, а обусловлены во многом: такое вот начало – колобродство, неуравновешенность, но и непосредственность тоже, искренность до отчаяния, – а потом – пеленки. Может так быть?..
В самом деле, этакое в генах заданное неустойчивое равновесие: обстоятельства могут толкнуть куда угодно, в любую сторону. Но всегда характер дойдет до самой крайности: или вспышка героическая какая-нибудь, или тоже ведь – самоотрешение полное: пеленки как божество. Не так схематично, конечно. Но что-то и в этой схеме есть? Как вы думаете?
Кажется, я начинал понимать его: «Верно, в Марии Пасечной когда-то примерещилось ему нечто от Наташи Ростовой? Так?..»
А он, будто подтверждая эту догадку, сказал – не мне, себе самому:
– Черт его знает! Может, и зря я когда-то так усердно подчеркивал ее дилетантизм в занятиях Голубкиной. Никак не думал, что она бросит ее вовсе… Сладкое счастье нашла… Это наше вечное шараханье: или – или! Но может, в человеческих-то отношениях половинчатость… не половинчатость – уступчивость иногда лучше, чем такой вот категоризм?.. Я теперь себя за это корю. Черт разберет эти женские выверты!
У него лицо покраснело пятнами. Странно было видеть его таким. Я пробубнил:
– Зря вы… Вы – не Лев Толстой…
Но он не нуждался в утешеньях, перебил:
– Вот что решим, Владимир Сергеевич: я с вами не еду, но письмо Михаилу передам. Если завтра перед отлетом меня не застанете, оно будет лежать тут, на столе. Найдете. Уж здесь-то, – он оглядел узенькую комнату, – вы теперь все найдете.
Наверное, еще и меня подбодрить хотел. Но в тот же миг взгляд его остановился на конверте, лежавшем на самом краю стола, и верхняя губа Панина криво вздернулась.
– Да! Тут и еще письмо… для вас небезынтересное.
От общего знакомца. Прочтите.
До конверта не дотронулся. Явно брезговал. И я сам достал из него мятый листок, вырванный из школьной тетради, прочел:
«Дорогой, многоуважаемый товарищ профессор!
Вы вернули мне память на всех подлецов, сделавших мою жизнь, сына красного революционера, несчастной.
И за то вам спасибо. Но они посмели из-за моей доверчивости злоумышленно таить до сих пор подробности жизни отца от всех людей и от меня, в частности.
Зато теперь болезнь – следствие аварии, к которой меня подстрекали, – крепко научила необходимой бдительности. Потому что и самое малое могут отнять у тебя в любую минуту люди, настроенные против святой гражданской войны. И я, как и в дни болезни, так же неотступно надеюсь на вас, что поможете теперь обрести не только память, но и давно причитающуюся мне жизнь прямого и единственного потомка старого большевика, погибшего в боях со славой. В частности – пенсию, персональную, причитающуюся мне давным-давно, а теперь в моем положении инвалида безвыходно необходимую. Иначе всякая районная шавка или даже домоуправ будут и впредь разговаривать сверху вниз и чинить препятствия.
Заранее благодарный, посылаю вам шапку, сшитую своеручно моей женой из лично выращенных мною кроликов.
Еще раз спасибо!
– Значит, выздоровел Долгов?
– Да. Оказывается, как раз вчера выписали. А я не знал… Шапку я в мусоропровод спустил, – Панин, брезгливо поморщившись, показал, как нес ее двумя пальцами. – А письмо вам оставил: что-то стряслось у него, и не иначе, затевает пакость наследничек.
Я усмехнулся.
– Вернули память!
– Я – ученый, – грустно ответил Панин. И это – упреком мне прозвучало.
Но теперь не до Долгова было. Хотя я не забывал грустных слов Панина. Впрочем, и помнить о них мне вроде не было надобности: все последующие события, дни летели стремительно и предопределение. Даже собственные мои поступки, самые неожиданные, больше не зависели от меня и не удивляли. Главное, очень уж быстролетно все совершалось. Изо всего сущего остались в памяти чуть не одни диалоги.
Главный редактор, как нарочно, был в отпуске. И говорить пришлось с его замом. «Он теперь на мне отыграется!» – думал я, рассказывая о Ронкине, о телеграмме.
– А убитый, говорите, сын начальника строительства Токарева?
– Да.
– И говорите, сын Токарева нападал в этой драке?
– Да.
– Пусть так. Но зачем нам вмешиваться в судебные всякие перипетии? Вот и недавно мы выступали со статьей на юридические темы. Разве это дело нашей газеты? Наша газета – орган общественно-политический прежде всего, нельзя же этого забывать! Существует теперь журнал «Человек и закон». Наконец, «Литературка» часто поднимает такую тематику, – им и карты в руки! Почему – мы?
– Но я и хочу прежде всего разобраться не в юридической, а в нравственной стороне дела: почему паренек, совершенно неспособный на убийство, поднял нож, почему? – вот что для меня важнее всего. Да разве для меня только?
– Неспособный, а все ж таки убил?
– Да, убил.
– Вот видите!.. И эта ваша нравственная сторона… знаете, с какой стороны на нее взглянуть! Писать-то надо будет непременно не только об убийстве, вольном или невольном – неважно! – но и об убитом, о родне его, так?.. Сын Токарева, известного человека… В горе он сейчас – это вы понимаете? И трепать его имя?
Это – нравственно?
– Я не знаю всех обстоятельств дела, поэтому не могу ничего решать заведомо. Но если не будет в том надобности, зачем же называть в статье фамилию Токарева? Можно и обозначить ее всего лишь буквой «Т».
Или любой другой. А может, и наоборот: публичное сочувствие Токареву надо высказать? Почему не помочь ему в трудной ситуации?
– Ну знаете! – он ухмыльнулся нечисто как-то. – Если б такая помощь требовалась, Ронкин бы вам не звонил. Не звонил!
– Да это я ему звонил, я!
– Ну, какая разница!.. – Все же он сумел остаться корректным. Проговорил: – Хорошо. Предположим вариант крайний: прав адвокат, и мальчишке вместо превышения пределов необходимой обороны дали преднамеренное убийство. И вы справедливо будете протестовать против этого. Но ведь нож-то был у него в руках?
Был. Значит, хотите вы этого или не хотите, но наша газета тем самым будет пропагандировать: мальчишки, носите в кармане нож! Так, что ли?.. Я согласен, суды еще не научились правильно квалифицировать случаи необходимой обороны, поэтому подчас и не решаются люди на открытую схватку с хулиганами. Надо выступать против этого, надо! Но на каких примерах? Когда у обороняющегося в кармане нож? Увольте!
Нечистый это, как говорят, случай, невыгодный для выступления. В любой ситуации – невыгодный. Понимаете? Нас же и осудят в конце концов.
– Да кто осудит-то?
– Все! Тот же читатель, наконец.
– Какой читатель?.. Вот читатель нашей газеты Ронкин прислал телеграмму корреспонденту вашей газеты: случилась история дикая в наше время, и нельзя ее замолчать. Я уверен, там уж по этому поводу всякие толки идут!.. Вправе ли мы не услышать этого человека?
И в какое положение вы меня ставите своим отказом?