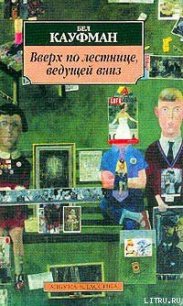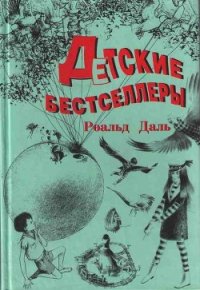Муравечество - Кауфман Чарли (читаем книги бесплатно txt) 📗
Затемнение с кругом.
Метеоролог в своей пещере снова включает голографическую проекцию и входит в нее. Попадает в ту же сцену. Вокруг костра выжившие. Малышка хлопает в ладоши. Мать просит перестать. Она перестает и через некоторое время начинает копать палкой. В этот раз палка натыкается на что-то твердое, металлическое. Девочка колотит, как по барабану. Мать говорит ей притихнуть. Та притихает и молча обкапывает вокруг металла, пока не достает из ямы металлический ящик. Теперь все вокруг костра смотрят. Девочка возится с защелкой.
— Осторожно! — говорит мать, забирает ящик, аккуратно встряхивает, слышит, как внутри что-то звенит, кладет на землю, опасливо отпирает и поднимает крышку. Все вокруг костра, за исключением малышки, сидят как на иголках.
Внутри ящика кукла, обернутая в целлофан. Мать разворачивает. Это красивая куколка в ярко-красном платье, единственное пятнышко цвета на этом серо-буром пейзаже. Вылитая сцена с маленькой девочкой из «Списка Шиндлера» — слащавый панегирик человеческой непокоримости в нудятине про Холокост от Стива Спилмана. Все в безмолвном изумлении смотрят на куклу.
— Моя, — говорит девочка.
— Кто нашел, того и есть, — соглашается мать и отдает куколку дочке, та прижимает ее к груди и улыбается.
Метеоролог тоже улыбается, как и знал, что улыбнется, как и был обязан. Но это чувство все равно кажется ему настоящим.
И отныне у него есть цель — или так ему кажется. Он просматривает все виртуальные версии того, что для нее закопает, а потом покупает это, находит нужные места и закапывает — потому что должен, потому что иначе нельзя, потому что сам так хочет.
Незримое не зримо из Зримого, но известно. Через него проходят. Незримое — это место, которое защищает Незримое Незримое от Зримого. Это прогнивший забор, прячущий великолепное поместье. Здесь не на что смотреть, народ. Нечего разорять. Но Незримое Незримое, верю я, прекрасно, таким оно создано Инго, потому что он может создать его так, как захочет. И он сам здесь — или, по крайней мере, здесь кукла Инго, уже идеально пропорциональная кукла Инго, принятая в обществе, разговорчивая, без заикания. Инго всех цветов и без цветов. Инго, который живет здесь с Люси Чалмерс в идеально созданной любви. В месте, где нет страха. В тишине.
И вдруг я здесь. Как я оказался в этом Незримом Незримом? Последнее, что я помню, — меня загипнотизировали вместе с курицей. Перед тем как сюда попасть, мне нужно полностью вспомнить фильм. Подношение еще не готово. Меня здесь быть не должно. Возможно, меня привели защитить Незримое Незримое от Незримого, от Зримого, от Зримого Зримого. Бывает вообще Зримое Зримое? Что бы это могло быть? Может быть, я стану страшным великаном, который бродит по зеленому саду? Я не готов к встрече с Инго. Фильм не вспомнился целиком. Мне пока что сюда нельзя. Может быть, я стану монстром Мельеса с Северного полюса по версии Инго: блефаростенически моргающей, бородатой куклой-великаном, закидывающей нежеланных гостей из Незримого себе в пасть, пока они комически крестятся в ужасе? Может быть, я здесь стану поводом для очередных шуток? Что ж, этого я не допущу. Не допущу. Когда я разворачиваюсь, чтобы уйти, найти выход из Незримого Незримого обратно в Незримое, в отдалении снова замечаю Олеару Деборд. Она моя Северная звезда, и по ней я правлю путь.
— Ебаный ебанат. Ты ебаный ублюдок. Пархатая жидовская скотина. А ну делай, что я тебе говорю! — раздается голос, безмолвно, — потому что тут все безмолвно, как я уже безмолвно сказал, — но я все равно его слышу. И останавливаюсь, потому что она мне знакома, эта фраза. Я ее уже слышал. Но где? Я тихо стою в тишине и не могу вспомнить. Очередное, что я не могу вспомнить.
И тогда ухожу.
— ИДИ НА ХУЙ, ЖИД! — кричит безмолвный голос.
Я останавливаюсь, смотрю и слушаю, как когда-то это делал американский аниматор Лен Дженсон в одноименном шедевре пиксиляции. Опять безмолвный голос: «Иди на хуй, жид». Полагаю, это адресовано мне, поскольку ни одного другого «жида» не присутствует. Даже здесь, в этом подлинном Эдемском саду, даже сейчас, в этот момент жизни, после всех тягот, я подвергаюсь оскорблениям. Что ж, я не собираюсь стоять и терпеть. Я продолжаю путь к свободе — или, по крайней мере, в любое не-здесь. Интересно, хоть что-то из этого настоящее? Или после какого-нибудь клишированного крупного плана, пока камера медленно отъезжает, окажется, что я в комнате с мягкими стенами, а пока камера отъезжает еще дальше, уже через скважину в мягкой двери, оказывается, что Инго — это санитар в белом халате из психиатрической больницы? Та самая затасканная концовка? Ненавижу эту концовку, порожденную ленью сценариста, недостатком веры в честный сюрреализм задумки. Такой концепт — плоть от плоти фильма Чарли Кауфмана, если у вас желудок достаточно крепкий, чтобы просидеть до конца. Видите ли, оказывается, это все происходит в разуме сумасшедшего. Это все сон. Et chetera. Четырехтысячная итерация «Уолтера Митти», поеденная молью уже тогда, когда ее написал Джимми Тёрбер. Нет. Не бывать этому. Я не безумен. Психически больные видят мир не так. Психически больные — самое непонятое и осмеянное меньшинство, и я не позволю пользоваться собой для укрепления этого неуважительного бреда. Я буду отстаивать свою точку зрения до самой смерти, даже если безнадежно потеряюсь в этом месте. Я скучаю по Цай. Я скучаю по уверенности в правильности нашей поразительной динамики отношений. Когда-то мне казалось, будто я к ней остыл, но теперь вижу, какой это было наглостью с моей стороны. Я мечтаю спать в ее ящике с носками, угнездившись в великолепных чулках. Я совсем не остыл.
А вот и мягкая дверь. Как и предполагалось. И я с одной ее стороны — причем не той. Эта скважина для тех, кто снаружи. Я все равно пытаюсь в нее заглянуть, и мир по ту сторону — где-то в тысяче миль от меня. И все же там есть фигурка, крошечная фигурка. Не могу ее разобрать.
— А, это ты, — говорит она.
Я дергаю за дверь, ожидая, что она заперта, но нет. Открываю и обнаруживаю там куклу афроамериканки. Вы ее не знаете. Она не знаменита, но тем не менее прекрасна.
— Я хочу вернуться в Зримое, — шевелю я ей губами.
— Ты не можешь вернуться, — говорит она мне. — Ты можешь идти только вперед.
— Мудро, — отвечаю я. — Надеюсь, ты не образчик оскорбительного приема «волшебный негр», потому что я не позволю пользоваться собой для укрепления этого редукционистского и снисходительного кинематографического штампа.
— Я никакая не волшебная, друг. Я здесь просто санитарка. Конечно, после всего, что я повидала, у меня может быть какая-то выстраданная мудрость, которой больше никто не знает, но я здесь просто помогаю.
— Ты же понимаешь, что это и есть определение «волшебного негра», да?
— Я понимаю, что тебе надо отсюда выбираться. Здесь тебе не место. Тебя здесь уничтожат. У тебя нет сил, чтобы выжить в Незримом, не то что у меня и моего народа благодаря нашим выстраданной мудрости и вере во Всемогущего.
— Ну, ладно, спасибо, тогда я пошел. Но как?
— Займись любовью с Олеарой Деборд. В этом миниатюрном мире ты как раз подходящего размера. Любовь, истинная любовь — вот единственное, что имеет значение. Если сможешь возлюбить ее, ублажить, она вернет тебя назад. Любовь — ключ ко всему.
Я всегда любил Олеару, как и все мужчины, многие женщины и многие трансы всех видов и размеров, так что заняться с ней любовью — это все равно что исполнить мечту.
— Ладно, попробую. Как отблагодарить тебя за все, чему ты меня научила?
— Просто иди. Твоя свобода и есть моя благодарность.
Я ее обнимаю и убегаю. Никогда не забуду эту чудесную санитарку психиатрической больницы!
Оказавшись у массивного основания, я подхожу к Олеаре Деборд, как подходят к потенциальной возлюбленной: с нежностью и большим уважением, все время репетируя вопросы о согласии, что обязаны предварять сеанс занятий любовью. Ибо, как и всё во вселенной, что есть не ничто, Олеара Деборд разумна, и, может, нам в животном и кукольном царстве не дано понять ее слишком медленный жизненный цикл, но это еще не делает ее хуже нас. «Эфемерность не есть показатель превосходства», — гласит слоган на утомительно длинных маршах гор. Конечно, так и есть. Иначе бы людям пришлось признать, что дрозофилы лучше их. А они — наши равные. Олеара, рожденная полтора миллиарда лет назад после столкновения тектонических плит, извержения магмы, великолепных фрикций, стоит гордо и возвышенно, наблюдая за этой страной, точно недремлющий страж. Я снова подхожу к ней — на сей раз не как исследователь, не как ищущий ответов, но как тот, кто ухаживает. Ухажер. В любви не ищут ответов; в ней ищут единства. Единственный ответ в единстве — «да», ибо в единстве нельзя сомневаться. Это извечно и навсегда акт веры, полное принятие другого. Когда открываешься ему (ей, тону), когда можешь отринуть эго, когда сливаются «я». Вопросы по определению рациональны, дистанцируют, оскорбляют — они противоположность любви. И вот я обращаюсь к Олеаре со списком вопросов о согласии на романтическое сближение.