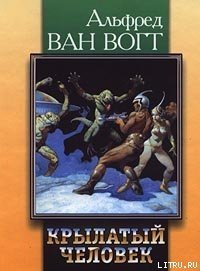Современная американская повесть - Болдуин Джеймс (читать полную версию книги txt) 📗
— Именно, — говорю я, осваивая новую манеру вести разговор — то ли по-дружески доверительно, то ли снисходительно, как с малым ребенком. — У него дрожали руки, при ходьбе подгибались коленки, он шаркал ногами. Вдумайтесь: это мой отец, а ведь считается, что на отца хочется быть похожим.
— Какое это имеет отношение к площади?
— Он, по-моему, знал наизусть всего Вордсворта.
— Вынужден напомнить: на прошение отводится определенное время.
Все, что исходит из-за стекла, преследует одну цель — выбить из колен. Я чувствую, что решимость сохранить спокойствие — само по себе беспокойное чувство.
— Вы меня слушаете? — спрашиваю я.
— С некоторым трудом. — Мне дают понять, что даже чиновник имеет право сказать резкость.
— Постарайтесь меня понять. Еще он любил Гарди — поэзию Гарди, не прозу. Странная, я думал, пара: Вордсворт и Гарди.
— Вам не жаль собственного времени.
— Отец жил просторно. Болезнь стремилась сломить его, но он был сильный человек и смог сделать свою жизнь просторной.
— Вот и вы сделайте свою просторной.
Он слушает! Он ухватился за мои слова! Может, оно не такое уж непробиваемое, это Бюро?
— Это было четверть века назад. Тогда было из чего выкраивать. Сейчас все другое.
— Все площадки в спальном зале Мэринсона одинаковы.
Он хорошо переключился. Вот мы и подошли к неизбежному. С какой стати мне требуется больше площади, чем соседу?
— Вы ошибаетесь. Площадки бывают трех категорий.
Иначе говоря, для одиноких, женатых и женатых с ребенком.
Пауза. Легко догадаться, что Бюро не в восторге, когда его сбивают мелочами: это привилегия самого Бюро.
— Одинаковые площадки у одиноких. Вы не согласны?
Этого интервью я ждал почти четыре часа, причем все это время… Стоп: что-то изменилось в звуковом фоне. Я различаю визгливый, как пила, голос мусорщика. Это может означать только одно: голос Мейси уже не забивает его. Ее время вышло? Прошение отклонили? Она ушла от окна? Смотрю в ее сторону. Нет, еще на месте. Лицо белое, как счет в бакалейной лавке. Я вижу ее слева, откуда лицо казалось смешливым, даже озорным; опавший рот разгладил симпатичную припухлость над верхней губой, улыбке уже не на чем держаться. За ее понурой головой ходит, как маятник, заклинающая голова мусорщика.
Мне больно за Мейси. У нее такое кроткое прошение. Помогая больным, ей хочется поддержать в себе чувство собственного достоинства, на худой конец — выделиться. А Бюро сначала довело ее до белого каления, а теперь измывается над беззащитной. Мне пора заявлять, что я — особенный, но вспышка гнева, взбудоражив неостывшую память о пережитом в очереди, путает мои мысли, и я всего-навсего говорю:
— Площадка для одиноких в Мэринсоне на сорок восемь квадратных дюймов меньше средней нормы.
Ответ я знаю заранее: всем (и значит, мне) известно, что размеры площади находятся в обратной зависимости от предоставленных удобств; между прочим, я еще не ответил на молчаливый вопрос: почему для меня одного должно быть сделано исключение?
Однако ничего этого окно не говорит, а говорит другое:
— Тут сказано, что за скандальное поведение вам на полгода продлили трудовую повинность. Вы скандалите с соседними площадками?
— В том случае меня вынудили на драку.
— Почему?
— Выплеснул бетой человеку на ногу. Случайно.
Я часто задумывался: случайно ли? Направляющие рычаги были хорошо отлажены, и та моя промашка была единственной. Может, в ту минуту, когда я рванул разгрузочную ручку, я уже нащупывал дорогу к подружке моего приятеля?
Гоню прочь неурочные мысли. Я должен быть начеку. Сейчас мне противостоит сила, от которой предостерегала Мейси: когда она прежде добиралась до окон, Бюро, перескакивая с одной темы на другую и искусно заманивая в ловушку, подрывало ее веру в правомерность прошений.
Неясный гул, щелканье турникетов и перекличку Бюро с самим собой покрывает гогот: бабуля отводит душу. Решила тряхнуть своей монгольской стариной. Ей на все плевать. Я тяну на себя, как одеяло, ее смех, хочу накрыться ее безразличием.
Покровом беззаботности укрыть свою заботу.
Окно спрашивает:
— Почему вы живете на площадке для одиноких?
Когда противник делает ход конем, учил отец, умей отвлечься от непосредственной угрозы и жди беды от последствий — от слона на том краю доски, от ладьи в зубчатой короне, от скромницы пешки, заслонившей ферзя.
Можно ответить так: потому что мы с женой расстались. Они, конечно, не упустят случая напомнить мне об обязанностях перед дочерью. Решаю не торопить событий, обеспечить себе возможность маневрировать и говорю:
— Потому что в метрической книге на Апельсиновой улице я записан как холостяк.
— А между тем четырнадцать лет назад вы подали ни много ни мало шестнадцать неверно составленных ходатайств о разрешении иметь ребенка.
— Семнадцатое сочли правильно составленным.
— А! — восклицает голос. — В ноябре и декабре прошлого года и в январе нынешнего… — И смолкает, чтобы потомить меня ожиданием. Вплотную подойдя к вопросу о дочери, он ушел в сторону: достаточно заронить тревогу. Ладья-башенка подождет, пусть затаится. — …и в январе нынешнего ваши ежемесячные отчеты запоздали, и компьютер выдал вам предупреждения.
Меня выкручивает ярость. Я сопротивляюсь ей, как мой отец сопротивлялся paralysis agitans [30], и если у него от напряжения дрожали руки, то у меня дрожит голос.
— Это называется: беспристрастно выслушать прошение? Вы просто хотите опорочить меня.
— Отлично, — отвечает голос, подтверждая. — Вы поведали нам, что из всех обитателей спального зала Мэринсона, четвертый вход, Сэмюэлу Дэвиду Пойнтеру единственному требуется увеличить площадь. Кстати, на сколько вам хотелось бы ее увеличить?
На этот раз голос обнаруживает даже некоторое чувство. В вопросе тускло блеснула свинцово-тяжелая ирония.
Этот новый тон возвращает мне уверенность, и я объявляю ровным голосом:
— Я прошу площадку размером восемь футов на двенадцать.
— Норма для одиноких в Мэринсоне?..
— Семь на одиннадцать.
— Вопрос был: на сколько вам хотелось бы…
— Я прошу дополнительно девятнадцать квадратных футов.
— Площадка на один фут больше в длину и в ширину удовлетворит ваши потребности?
— Нет. Просто восемь на двенадцать — это максимальная допустимая норма для одиноких.
— Но вы все же думаете, что площадка на один фут больше в длину и в ширину внесет радикальные перемены в вашу жизнь?
— Безусловно.
— Вам не приходило в голову, что удовлетворение вашей просьбы обернется для кого-то потерей площади более чем на пятую часть?
— Есть другие возможности… — У меня продумано несколько вариантов, как нарезать куски от проходов, но жалобному окну это неинтересно.
— В чем это переменит вашу жизнь?
Окно потешается надо мною. Словно дразнит костью, заставляя разговориться, чего я жду от — неужели, возможного? — удовлетворения моего ходатайства. Что же, встать на задние лапки и поскулить? Нет, нужно перехватить инициативу. Именно сейчас голос переходит в наступление. Я особый случай. И прошение мое особенное. Я не дам обвести себя вокруг пальца. Мне не по пути с Мейси, золотушным, учительницей и Лотереей, понуро повесившим голову.
Мне часто снится, что я заблудился. Дело происходит где-то около трудового лагеря. Рабочий день кончился. Ожидается некое мероприятие, в котором мне определена важная роль: сделать сообщение на итальянском языке. А я не готов. Я даже не знаю ни слова по-итальянски, могу только жестикулировать. Чтобы успеть подготовиться, я спешу из последних сил. Меня ждет ощутимое вознаграждение, если я справлюсь, и суровое наказание в случае неудачи. Я бегу через какую-то стройку, проваливаюсь в траншеи, перелезаю через деревянные корытца с раствором, увертываюсь от гусениц ползущего подъемного крана и оказываюсь среди хаоса поверженных домов. Бывший спортивный зал где-то впереди, за грудой рухнувших стен, за пнями торчащих труб. Ни единого человека вокруг, пуста даже кабина движущегося крана. Рыхлая земля не дает опоры. Ноги болят. Я опаздываю со своим сообщением. Забыл, где мне выступать. Едва передвигаю ноги. Но я бегу. Бегу!