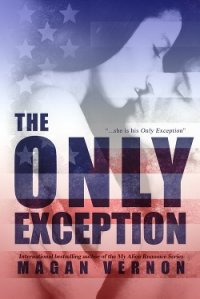Саммер - Саболо Моника (бесплатные полные книги .TXT) 📗
А потом пришло время перемен: мать начала по-другому смотреть на Саммер — больше не ходила с ней по магазинам, не водила ей по волосам ваткой, вымоченной в настое ромашки, чтобы осветлить пряди.
Это произошло еще до того, как сестра принялась заниматься всякой ерундой и гулять с парнями сильно старше себя, например с типом из Анмаса,[10] который заезжал за ней на «Альфа Ромео» — волосы у него были зачесаны назад и залиты лаком. Тогда Саммер и не думала вытворять всякие ужасы, например встречаться с Алексией и Коко в школьном классе посреди ночи и напиваться текилой, освещая все это пламенем зажигалки (наверное, только Джил понимала весь идиотизм происходящего — зачем возвращаться ночью туда, откуда так хотелось сбежать днем?), или нюхать до физкультуры попперсы,[11] сидя в нижнем белье и засунув голову в шкафчик в раздевалке.
Что-то переменилось, когда Саммер стала взрослеть, переменилось разом — она то толстела, то худела, то опять толстела, но уже по-другому. Пришлось купить ей лифчик.
Видимо, именно тогда, хотя на самом деле я не знаю, матери расхотелось, чтобы они были как сестры.
Как-то летом мать надела раздельный купальник с тропическим мотивом, за ухо заложила цветок гибискуса (где она его только нашла?) — вокруг нее вьются приятели Саммер, слушают ее, глаза у них блестят — не знаю, что там она им рассказывает. Сестра с мрачным видом стоит в стороне, водит ногой по траве. Она в спортивном танцевальном трико бордового цвета из лайкры, носит его вместо купальника.
Я вхожу в ванную, у Саммер (ей одиннадцать? двенадцать?) в руке что-то окровавленное, кажется, она держит за хвостик маленькую освежеванную тушку. Она смотрит на меня с ужасом, кричит, чтобы я вышел. Не знаю, что меня больше пугает: ее широко раскрытые глаза или то, о чем не говорят, то, что качается у нее в руке. У нее слишком округлый живот, резинка от трусов впивается в кожу. Тогда казалось, что все дело в еде — мать смотрит, как моя сестра жует, и ничего не говорит, но я начинаю паниковать, когда вижу, что Саммер тянется к корзинке с хлебом; ту поставили далеко на стол, как бы подальше от нее.
Я в одиночестве ужинаю на кухне, отец «на работе». А Саммер? «У нее болит живот», — говорит мама, и в ее голосе слышится легкий, но ясный сарказм.
Как всегда, меня ни во что не посвящают, Саммер молчит. Она замкнулась в себе, будто спряталась в отдаленном уголке своего тела. Она лежит в одних трусиках на кровати у себя в комнате и пишет стихи; под одеялом — жизненно необходимый запас из плавленых сырков, шоколадных батончиков, кассетник или что-то непонятное в блокноте, покрытом наклейками. Она закрывает его на резинку. Говорит мне с заговорщицким видом, прямо как шпион: «Я внутри волосок оставляю, если кто-то откроет, сразу пойму». Я отмечаю про себя, что она даже не представляет, раз посвящает меня в свои приемы контрразведки, — таким подлецом могу оказаться я. Хотя, может, это предостережение или угроза?
Иногда она остается в постели целое воскресенье, тихонько постанывает; видны только ее волосы на подушке. В такие дни мать нервничает, у нее плохое настроение. Кажется, мою сестру и мать связывает электрический ток, бежит по невидимому проводу, спрятанному где-нибудь под ковром в одной из комнат или под газоном, усыпанном маргаритками и лютиками, которые появились совершенно неожиданно, как будто все разом зацвело благодаря подземным силам и превратилось в бушующий поток, готовый обрушиться на нас — а может, это уже произошло, и теперь слишком поздно спасаться.
А еще было это темно-красное пятно, которое осталось после сестры на белом диване в гостиной, а потом, на следующее утро, еще одно, страшнее, похожее на грязную лужу, на ее ночной рубашке — свернутая в комок, она валялась на дне помойки на кухне. Я сердился на Саммер: она умирала, ее терзала какая-то болезнь, ужасная и постыдная, постигшая ее по ее же вине.
До прихода родителей сестра протерла диванную подушку губкой, вымоченной в хлорке, но пятно размером с монету осталось там навсегда.
После исчезновения Саммер я, преодолевая слабое чувство брезгливости, постоянно усаживался на этот бледно-розовый след, стараясь скрыть его от родителей. Когда мы с матерью и отцом собирались в гостиной и вели какие-то беседы — это случалось все реже и реже, — я думал о сестре, о том, что от нее остался только этот выцветший ареол, который мы не смогли стереть, а остальное, все остальное, совершенно исчезло.
Мне так и не довелось узнать, знали отец с матерью про это пятно, или нет. Но, наверное, знали — ведь во всем остальном наш дом оставался настоящим совершенством.
Мы об этом никогда не говорили.
На самом деле, может, всего этого, всех этих картинок, появляющихся из глубин вязкой трясины, никогда не было. И все преувеличено, искажено из-за тревожности (смущения, отвращения, ужаса) семи- или восьмилетнего мальчишки, которому существование представлялось в трагичном свете?
Девочка исчезает, потому что как-то летом мать забыла купить ей купальник? Растворяется в воздухе, потому что мать залепила ей пощечину, когда у той начались первые месячные, — как рассказала мне позже Джил? «Традиция такая, — объяснила мне она, спокойно закуривая, — мать дает пощечину дочери, когда та становится женщиной». И добавила без эмоций: «Это, наверно, чисто французское».
Разве человек может испариться?
Такого не бывает или бывает только в таких вот несчастных семьях, в которых самый безобидный (и безликий) человечек, представляя себе все самое ужасное, отбрасывает тень своего страдания на кого-нибудь другого и призывает на свою голову то, чего боится больше всего на свете. Он в силах воплотить в реальности трагедию, порожденную его воспаленным воображением, и трагедия эта изливается из его души, как кровь, которая течет из тела моей сестры; она темная, она не иссякает.
Когда исчезла Саммер, Коко, Алексия и Джил, казалось, переехали к нам. Они собирались у подноса с напитками, курили или ходили рука об руку по саду и смотрели вдаль — как больные на поправке, которым прописали ежедневный променад. Стояли на траве вокруг кованого стола или вставали кружком вокруг матери, и только по смене нарядов удавалось понять, что время идет (хотя Джил не хотела переодеваться и носила свое монашеское платье; одна мысль о том, чтобы выбрать другую одежду, казалась ей предательством, невыносимым показателем тщеславия).
Часто они замирали, повернувшись лицом к озеру, будто ждали, что оттуда прилетит какая-нибудь весть. Вяло играли в настольный теннис, медленно перебрасывая шарик. Ложились рядом на траву и смотрели в небо, а их неподвижные тела напоминали исполнение какого-то мистического ритуала или захоронение.
Осиротевшие подруги выглядели усталыми, щеки у них впали, они закусывали губы от волнения. Они напоминали маленьких заблудившихся девочек, постоянно готовых залиться слезами, они и правда могли разрыдаться без предупреждения, а потом убегали и прятались в доме.
Эти несколько дней, длинных и ленивых, как само лето, они общались со мной как с равным. Нас объединяла мысль о допущенном нами промахе, случайно совершенной ошибке, и ощущение собственной неправоты окутывало всех четверых, как облако пепла, как чернота. Они обнимали меня, рассеянно проводили рукой по моей щеке, и я — впервые в жизни — чувствовал, что стал частью чего-то цельного и прочного.
Навещавшие нас друзья родителей старались найти подход к девочкам, но те избегали разговоров, ускользали при первой возможности и держались вдали от вновь прибывших; они просто были в курсе происходящего. В саду собиралось все больше и больше народа, и маму, которая не снимала солнечные очки, постоянно окружали люди.