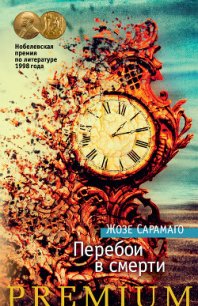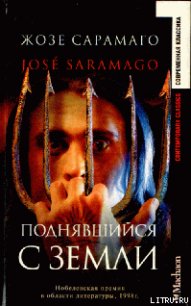Евангелие от Иисуса - Сарамаго Жозе (книга жизни TXT) 📗
Говорили мне, будто Закон велит жене во всем повиноваться мужу, всячески его почитать, а потому я и не стану повторять, что не было со мною рядом никакого мужчины, раз ты утверждаешь обратное, скажу лишь, что никого не видала. Это был тот самый нищий! Да почем же ты знаешь, если в тот день, когда постучался он к нам, ты и рассмотреть его не успел. Он, он, больше некому. Да отчего же — просто шел прохожий человек своей дорогой, только медленней, чем мы, вот и обогнали его — сначала вы, мужчины, а потом и мы, когда же он поравнялся со мной, ты обернулся, вот и все, и больше ничего. Стало быть, ты подтверждаешь? Нет, я, как подобает жене, сознающей долг свой, всего лишь ищу объяснение, которое бы тебя устроило. Из-под опущенных век, почти уже засыпая, вглядывается Иосиф в лицо жены, желая познать истину, но черным, как обратная сторона луны, сделалось оно, и слабый отблеск догорающего костра обвел профиль ее тонкой линией. Иосиф уронил голову на грудь, будто окончательно уверился в том, что загадки этой ему не разгадать, и, погружаясь в сон, унес с собой такую вот сущую нелепицу: человек этот — его нерожденный сын, пришедший из будущего, чтобы сказать: Вот каким буду я, да только ты меня не увидишь. Спит Иосиф, улыбаясь во сне покорно и смиренно, но и печально, словно слышался ему ответ Марии на эту не высказанную им мысль: Не дай Бог, ибо мне доподлинно известно, что бродяге этому негде голову приклонить. Истинно, истинно говорю вам: многое в мире сем стало бы известно, прежде чем воспоследовали из этого многого иные события, если бы вошло в обычай у мужей и жен говорить друг с другом, как водится у мужей с женами.
На следующий день рано поутру двинулись к Иерусалиму многие из тех, кто провел ночь на этом постоялом дворе, но получилось на этот раз так, что Иосиф, хоть и не упускал из виду земляков, направлявшихся в Вирсавию, оказался рядом с женой, шел, так сказать, у стремени ее, в точности как третьего дня — тот бродяга или кто он там был. Иосифу, впрочем, в эти минуты не хочется о нем думать: в самой глубине души он твердо убежден, что сподобился особенной благодати Господа, который привел ему увидеть сына еще до того, как тот родится, — и увидеть не личинкой человеческой, беспомощной в коконе пелен, кричащей пронзительно и пахнущей неприятно, но зрелым мужем, на целую пядь превосходящим ростом и отца, и прочих соплеменников. Иосиф счастлив, что занимает сейчас место сына своего, и себя он чувствует и отцом и сыном, и такую силу обретает чувство его, что внезапно забывает он о том, что истинное его дитя направляется, пусть и не своими ногами, но в материнской утробе, в Иерусалим.
Иерусалим, Иерусалим! — кричат набожные путники, когда на противоположном краю долины на склоне холма небесным видением предстает им этот город, центр мира, под ярким полуденным солнцем вспыхивающий мириадами искр, будто хрустальный венец, чистым золотом, как все мы знаем, загорающийся в закатных лучах, млечной белизной осиянный в полнолуние Иерусалим, Иерусалим.
И Храм возникает так, словно в этот самый миг поставил его наземь Господь, и некое дуновение, которое коснулось вдруг волос, и щек, и одежд паломников и просто путников, родилось, быть может, от мановения длани Господа, и, если внимательно вглядеться в облака на небе, можно еще заметить эту огромную исчезающую в высоте руку, длинные, выпачканные глиной пальцы, ладонь, прочерченную линиями жизни и смерти людей и всех прочих сущих во Вселенной, и даже — пришло нам время узнать и это — линиями жизни и смерти самого Бога. Тянутся к небесам трепещущие от избытка чувств руки путников, неудержимо рвутся из уст их славословия, и звучат они уже не хором, ибо каждый объят собственным восторгом, иные же, по природе своей склонные к сдержанности в изъявлении подобных чувств, замирают недвижно, смотрят ввысь неотрывно, а слова молитвы произносят суховато и жестко, словно в такую минуту дозволяется им как равному с равным говорить с Господом своим. Дорога плавно идет под уклон, и, по мере того как путники спускаются в долину, чтобы потом начать очередной подъем, который приведет их к городским воротам, все выше и выше вздымается перед ними Храм, все больше и больше, в соответствии с правилами перспективы, закрывая собою Антониеву башню, где даже с такого расстояния можно разглядеть силуэты дозорных легионеров — вспыхивает на солнце и тотчас гаснет металл доспехов и оружия. Здесь и расстается с попутчиками чета назаретян, ибо Мария устала и не вынесла бы дробной рыси, которой пришлось бы пустить ее длинноухого скакуна, чтобы держаться вровень с паломниками, ускорившими шаги и чуть не на бег перешедшими при виде городских стен.
И остались Иосиф с Марией на дороге одни — она пытается собрать остаток сил, он слегка досадует на задержку, случившуюся уже почти у цели. Отвесные лучи бьют в безмолвие, окружающее плотника с женой. И в этот миг сдавленный стон вырывается у Марии. Что, болит? — обеспокоенно спрашивает Иосиф. Болит, отвечает она, но тотчас же ее лицо стало иным, недоверчивое выражение расплывается по нему, словно она столкнулась с чем-то непостижным ее разуму: больно было не ей, хотя и ей тоже, — боль эта передавалась от кого-то другого, и не «кого-то», а от ребенка, заключенного в ее чреве: но разве возможно чувствовать боль, испытываемую другим, как свою собственную, словно — ну, может быть, не так и не теми словами описываем мы это, — словно эхо, которое из-за неведомой акустической аномалии делается отчетливей и громче звука, породившего его. Ну что, все болит? — осторожно, боясь услышать ответ утвердительный, спросил Иосиф, Мария же не знает, что ответить ему: скажешь «да» — солжешь, а «нет» тоже будет не правдой, и потому она не отвечает ничего, а боль не исчезла, она тут, Мария чувствует ее, но так, словно не в силах вмешаться, смотрит она во чрево свое, болящее болью младенца, и не может облегчить ее, ибо слишком далеко оказалась. Иосиф не понукал осла, не подхлестывал его — тот сам вдруг прибавил рыси, стал живее переставлять ноги, взбираясь по крутому склону, что вел к Иерусалиму, проворно и легко пошел дальше, будто услышав неведомо от кого, что скоро обретет он полную кормушку и долгожданный отдых, но не зная, что сначала еще предстоит одолеть немалый кусок пути до Вифлеема, а когда доберется он туда, поймет, что жизнь не так проста, как кажется, и хорошо, конечно, было Юлию Цезарю провозглашать в час славы «Пришел, увидел, победил», — куда хуже было то, что вскоре пришлось увидеть смерть в образе собственного сына и не победить, а умереть, и ни малейшего утешения нет в том, что пал он от руки сына не родного, а приемного.
Издавна ведется и непохоже, что скоро кончится война отцов и детей, передаваемая по наследству вина, отторжение крови, приношение невинных в жертву.
Уже за городскими воротами Мария снова не смогла сдержать крика боли — только на этот раз уже такого пронзительного, словно насквозь пронзили ее копьем. Но услышал его один Иосиф, ибо невообразимый шум подняли на торжище у стен люди и скоты — последние, правда, вели себя не в пример тише, — но все же те и другие галдели так, что еле-еле можно было разобрать собственный голос. Плотник решил проявить благоразумие: Нельзя двигаться дальше, давай лучше поищем здесь пристанище, а завтра я схожу в Вифлеем, на перепись, скажу, что ты на сносях и, если надо будет, придешь, когда родишь, я же не знаю, какие там у римлян законы, может, достаточно главы семьи, особенно в таком случае, как наш, Мария же ответила: Уже все прошло, и это была правда: боль теперь уже не пронзала копьем, а колола булавкой, терла, будто власяница, и, хоть постоянно напоминала о себе, была вполне терпимой. Иосиф вздохнул с несказанным облегчением: отпала необходимость блуждать по лабиринту иерусалимских улочек, ища, кто бы приютил у себя женщину, собравшуюся предаться мучительному труду родов, он же, как и всякий мужчина в таких обстоятельствах, трусил отчаянно, только не хотел самому себе в этом признаваться.
Придем в Вифлеем, размышлял он, а это такое же захолустье, как Назарет, там все проще будет: в маленьких городках все друг друга знают, и помощь ближнему для них не звук пустой. А Мария перестала стонать — значит, либо прекратились у ней боли, либо может стерпеть, так или иначе, надо двигаться в Вифлеем. Осла хлопнули ладонью по крупу, что, если вдуматься, следовало рассматривать не столько как почти невыполнимый в этой невообразимой толчее приказ живей шевелить копытами, сколько как движение души, с которой камень свалился. Узенькие улочки были запружены и до отказа забиты людьми всех рас, племен и наречий, и проход как по волшебству расчищался лишь в тех случаях, если в глубине появлялся римский дозор либо караван верблюдов, и народ тогда раздавался в обе стороны наподобие вод Красного моря. Однако мало-помалу, призвав на выручку терпение и упорство, протиснулись чета назаретян и ослик их туда, где кончилось скопление этих бешено суетящихся, размахивающих руками людей, ни на что, кроме купли-продажи, внимания не обращающих, так что ни к чему было бы им знать, что вон, гляньте-ка, — Иосифплотник с женой, а у нее уж брюхо на нос лезет, зовут ее Мария, а путь они держат в Вифлеем на перепись, и если в самом деле никакого проку нет от благодетельного попечения римских властей, то потому, видно, что живем мы в краю, столь изобильном одинаковыми именами, что на каждом шагу нашлись бы в этой толпе и другие Иосифы, и другие Марии всех возрастов и сословий, и, вероятно, наши герои — не единственные, кто ждет рождения своего первенца, и наконец, чтоб уж ничего не оставлять недосказанным, добавим — ничего удивительного нет и в том, если где-нибудь поблизости и в одно и то же время, может, и на одной и той же улице явятся на белый свет два младенца мужского, слава Тебе, Господи, пола, а вот судьба у каждого из них будет своя, даже если мы в качестве последней попытки придать вес и значение примитивной тогдашней астрологии назовем тех мальчиков одинаково — скажем, Иешуа, или, как иные еще произносят, Иисус. И пусть не говорят нам, будто мы забегаем вперед и опережаем события, давая имя тем, кому еще лишь предстоит родиться, не мы в этом виноваты — спрашивайте с плотника назарейского, которому уже давно втемяшилось в башку, что именно так и будет наречен первенец его.