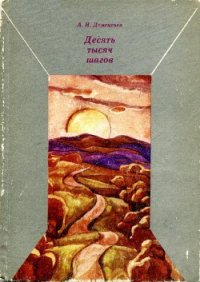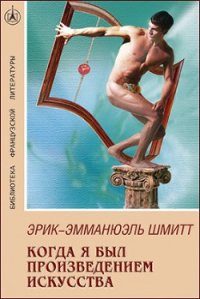Дети Ноя - Шмитт Эрик-Эмманюэль (читать полную версию книги TXT) 📗
— Какой он славный, этот мальчишка, — пробурчала мадемуазель Марсель, завидев меня. — На, лови!
И бросила мне медовую пастилку. Пока мои зубы сражались с этим лакомством, отец Понс изложил аптекарше ситуацию.
— Черт побери, господин Понс, можете не беспокоиться. Я вам подсоблю. Сколько их у вас?
— Двенадцать.
— Можете объявить, что они захворали. Хоп! И всю дюжину назначенных на процедуру — в лазарет.
Священник призадумался:
— Их отсутствие будет замечено. Оно-то их и может выдать.
— Только не в случае эпидемии…
— Даже и в этом случае. Люди могут что-то заподозрить.
— Значит, надо к ним добавить пару мальчишек, которые вне всяких подозрений. Ну вот, к примеру, хотя бы сына бургомистра. Или, еще того лучше, сына этих идиотов Броньяров, которые выставили фотографию Гитлера в витрине своей молочной лавки.
— Разумеется! И все же чтобы четырнадцать мальчиков разом заболели…
— Та-та-та, уж это моя забота…
Как Черт-Побери это устроила? Под предлогом медицинского осмотра она явилась в наш лазарет и обследовала мальчиков, которым предстояло причастие. Два дня спустя у сына бургомистра и Броньяра-младшего разыгрался такой страшный понос, что они не смогли явиться на занятия. Черт-Побери подробнейшим образом описала симптомы болезни отцу Понсу, а он, в свою очередь, изложил и велел их тщательно симулировать двенадцати еврейским «причастникам».
И так как причастие было назначено на следующий день, всю дюжину лжебольных отправили на трое суток в лазарет.
Церемония состоялась в шемлейской церкви — торжественная служба, в ходе которой орган гремел еще громче, чем обычно. Я ужасно завидовал моим товарищам в их белых одеждах, принимающим участие в таком прекрасном спектакле. В душе я дал себе слово, что в один прекрасный день тоже окажусь на их месте. Отец Понс мог сколько угодно обучать меня Торе, — все равно ничто не трогало меня сильнее, чем католические обряды с их золотом, роскошью, музыкой и этим Богом, беспредельным и воздушным, доброжелательно обретавшимся на потолке.
Возвратившись на Желтую Виллу, где нас ждал более чем скудный банкет, показавшийся нам тем не менее достойным самого Пантагрюэля — так мы все изголодались, — я с изумлением обнаружил в вестибюле мадемуазель Марсель. Едва увидев ее, отец Понс немедленно затворился с нею в своем кабинете.
В тот же вечер он рассказал мне, какая катастрофа чуть было не обрушилась на нас.
Во время причастия гестапо устроило налет на наш пансион. Нацисты, без сомнения, рассуждали так же, как отец Понс: отсутствие на церемонии детей, которым по возрасту полагалось там находиться, выдавало их с головой.
К великому счастью, мадемуазель Марсель караулила перед лазаретом. Когда нацисты, не застав никого в дортуарах, поднялись на последний этаж, она принялась кашлять и отхаркиваться, по ее собственным словам, «омерзительнейшим образом». Зная, какое впечатление производила на людей уродина Черт-Побери в своем обычном состоянии, невозможно было не содрогнуться, представив, как она еще и кривляется. Нимало не противясь их требованиям, она отперла нацистам двери лазарета, предупредив, однако, что болезнь у мальчишек ужасно заразная. Не довольствуясь одними словами, она присовокупила к ним такое безудержное чиханье, что нацистские физиономии оказались сплошь оплеванными.
Испуганно утирая лица, гестаповцы поспешно попятились и покинули пансион. После того как черные машины уехали, мадемуазель Марсель битых два часа провалялась на одной из лазаретных коек, корчась от хохота, что, по словам ребят, поначалу внушало ужас, но потом оказалось заразительным.
Хотя отец Понс не показывал виду, я чувствовал, что он все более и более встревожен.
— Я боюсь телесного осмотра, Жозеф. Что я смогу сделать, если нацисты заставят вас раздеться, чтобы посмотреть, нет ли среди вас обрезанных?
Я кивнул, скорчив при этом гримасу в знак того, что разделяю его опасения. На самом же деле я совершенно не понял, о чем он говорил. Какие еще обрезанные? Руди, которого я попытался расспросить, принялся хихикать, да еще с подвизгиваньем, какое обычно издавал, если речь шла о красотке Розе, и которое звучало так, словно он колотил себя в грудь мешком с орехами.
— Ты шутишь! Ты что, правда не знаешь, что такое обрезание? А что тебе его сделали, хоть это ты знаешь?
— Да что мне сделали-то?
— Обрезание, вот что!
Мне не нравился оборот, который принимал наш разговор: оказывается, у меня опять обнаружилась какая-то особенность, не зависящая от моей воли! Как будто недостаточно просто быть евреем!
— У тебя на пипиське есть кожица, которая не доходит до самого конца?
— Само собой!
— Ну так вот, а у христиан она доходит до конца и свисает, и у них круглая головка не видна!
— Как у собак?
— Да. Точь-в-точь как у собак.
— Тогда, получается, правда, что мы относимся к другой расе!
Эта новость меня просто подкосила: все мои надежды стать христианином улетучивались. Из-за какого-то клочка кожи, которого никто и не видит, я был обречен навсегда оставаться евреем.
— Да нет же, дурак, — продолжал Руди, — это ведь не от природы так, а в результате хирургического вмешательства: тебе это сделали через несколько дней после твоего рождения. Это раввин тебе обрезал кожицу.
— Зачем?
— Чтобы ты был как твой отец.
— Зачем?
— Затем, что так делается уже тысячи лет!
Это открытие потрясло меня. В тот же вечер, уединившись, я в течение долгих минут изучал свой покрытый нежной, розовой кожей отросток, причем совершенно безрезультатно: мне нипочем не удавалось вообразить, что он мог бы выглядеть как-то иначе. В последующие дни, чтобы убедиться в правдивости слов Руди, я то и дело задерживался в туалете на дворе, тратя драгоценные минуты переменок на повторное, уже неизвестно в который раз, мытье рук и кося взглядом в сторону писсуаров, где мои товарищи вынимали из штанов и вкладывали обратно свои причиндалы. И довольно скоро мне пришлось убедиться, что Руди вовсе не лгал.
— Руди, но ведь это же нелепо! У христиан на кончике остается тоненькая кожица, стянутая и сморщенная, как у надувного шарика в том месте, где завязывается узел! И это еще не все: им нужно больше времени, чем нам, чтобы пописать, они же потом еще трясут свою пипиську, как будто сердятся! Они что, наказывают себя?
— Нет, они просто стряхивают капли, прежде чем закрыть головку. Им труднее, чем нам, соблюдать чистоту. Если они не поостерегутся, то могут подхватить кучу вонючих микробов, от которых потом будет больно.
— И после этого нас же еще преследуют?! Ты что-нибудь понимаешь в этой жизни?
Зато теперь мне стало понятно, о чем тревожился отец Понс. До меня только сейчас дошло, по каким незримым формулам был организован еженедельный банный день: священник составлял списки, которые сам же и перепроверял, устраивая перекличку, и десять мальчиков разного возраста нагишом бежали из раздевалки в душевую под его и только его самоличным наблюдением. Каждая группа была однородна. Ни разу христианский мальчик не оказывался в одной группе с еврейскими, и наоборот, а во всех прочих местах нагота воспрещалась и наказывалась. И отныне я уже мог без труда определить, кого прятали от нацистов на Желтой Вилле. С этого дня я стал принимать меры предосторожности и взял за правило облегчать свой мочевой пузырь за закрытой на задвижку дверцей кабинки, избегая открытых писсуаров. Я даже пытался исправить последствия операции, причинившей мне такое увечье: я посвящал моменты уединения манипуляциям с кожицей, чтобы она обрела свой изначальный вид и покрыла головку моей пипки. Тщетно! Как я ни пытался ее растянуть, она всякий раз неумолимо возвращалась на место, и мое ежедневное упорство так и не привело хоть к малейшему прогрессу.
— Жозеф, что делать, если гестаповцы велят вам раздеться?
Почему отец Понс выбрал себе в наперсники самого маленького из своих пансионеров? Считал ли он меня более храбрым, чем остальные? Или испытывал потребность поговорить хоть с кем-нибудь? Страдал ли от необходимости нести в одиночку бремя столь мучительной ответственности?