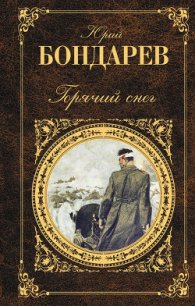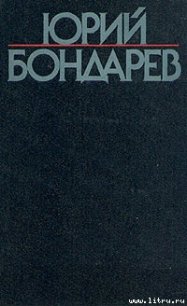Берег - Бондарев Юрий Васильевич (книги хорошем качестве бесплатно без регистрации txt) 📗
– Прозаик Никитин? Ты, что ль? Опус свой скупаешь? Здорово, что ль!
Сильно окающий голос толкнулся в затылок Никитина, прозвучал бесцеремонно дерзким артистическим панибратством, и он поежился, ловя ладонью высыпаемую ему продавцом сдачу, обернулся, увидел молодого поэта Василия Вихрова, уже печатавшегося, уже многим известного в литературных кругах. Был тот ржановолос, широкоплеч, шумен, похож на молодого Есенина не только молочно-здоровой деревенской внешностью, но и манерой читать стихи гулким баритоном нараскат: Никитин слышал его раз на студенческом вечере в университете.
– Прозаик… Талантище!..
Вихров, в потертом, помятом пиджаке, ворот поношенной рубашки распахнут, плохо причесанные волосы спадали на крепкий лоб, обрадованно, подобно веселому сельскому парню в порыве чувств, фамильярно облапил его сзади, говоря звучным распевом:
– Читал рассказ, читал, мы с тобой соседи в журнале, моя баллада там напечатана, не прочел? Прочти! А я твой опус прочел, – хорошо, здорово! Как у тебя там? «Огоньки шевелились в темноте», что-то вроде так… Это, брат, прямо строка из стихов! Талантище ты, Никитин, прорвешь пелену и в Чеховы на белом коне выедешь! Мо-ло-дец, прозаик, мо-ло-дец!
– Ты в какую сторону? – спросил, краснея, Никитин и покосился на продавца, который пожевывал вафельки, прислушиваясь к барабанному баритону Вихрова. – Ты не в центр?
– В центр так в центр! Пошли. Гонорарий получил? Обмоем? Твой рассказ, первую ласточку, и мою балладу! Посидим где-нибудь. Поговорим за жизнь. Поедем в Парк культуры, на чистый воздух! У тебя как – дети не плачут? Жена не ждет? Теща со скалкой не встречает?
– Нет, я один.
– Потопали на троллейбусную остановку, Чехов! Грех первый рассказ-то не отметить! Чтоб дорожку обмыть и выстелить чистенько, понимаешь ты. Белой скатеркой в славу! Прозаик, чертище, божья искра у тебя, понимаешь ты?
Никитин хорошо помнил, что сначала звенела в душе легкая праздничная радость («наконец-то случилось важное в его жизни, удивительное!»), и оттого, что напоминанием о случившемся лежали рядом на столике журналы с его рассказом, и от знойного солнечного июньского дня, чудесно сверкающего в густой листве Центрального парка, в разноцветных стеклах летнего кафе, куда они зашли в эту дневную пору, и от первой выпитой рюмки, приятно затуманившей нескончаемые его муки работы по ночам, и оттого, что открывалось новое и прекрасное в его жизни, он неизбывно чувствовал веселую доброту, растроганность, щедрость, любовь ко всем людям, к предметам, к прохладной тени на полу, к жаркому солнцу начавшегося лета, – на терраску веяло запахами дерева, пресной листвы, нагретым воздухом чистеньких и подметенных вокруг кафе аллей.
Он с непроходящим наслаждением слушал Вихрова, много говорившего о поэзии прозы, о деталях рассказа, о боге, который волшебно водит кончиком пера в магические мгновения работы, о том, что некоторым фронтовикам-единицам выпала судьба, посчастливилось остаться в живых, чтобы сказать то, чего другие не скажут. И, слушая Вихрова, влюбленно глядел в его здоровое лицо, в искристые голубые глаза, страстные и горячечные увлеченностью пойманной мысли, на ржаные волосы, падавшие на лоб, и думал, какой все-таки любопытный парень этот Вихров, как самозабвенно верит в искусство и работу, в кристально отточенное изящество слова, над чем ежедневно мучился сам. Он слушал и укорял себя за то, что не знал его гак близко раньше, до этой встречи, а знал лишь, что он воевал, заканчивал университет, печатался и слишком подчеркнуто окал, играя под простоватого парня.
Вихров произносил тосты за грубую и мужественную прозу, за женственную поэзию, за всю литературу, за ненормальных человеческих особей, так называемых писателей, которые выдумывают вторую жизнь божественной волей воображения; потом Вихров начал читать последние, еще не опубликованные лирические стихи. А Никитин чем больше пил, тем больше восторгался Вихровым, его талантом, умом, душевной тонкостью и после каждого прочитанного стихотворения говорил: «Великолепно, здорово, отлично!» – и порывался обнять его в избытке восхищения и, окончательно покоренный, раскрытый, обнаженно-добрый, дважды поцеловал его, едва не плача от любви.
Но, растроганный наплывом восторга и доброты, он с внутренним ликованием все время помнил: судьба поставила значительную и драгоценную веху на нелегком его пути. Да, начиналась новая полоса его жизни, долгожданная, счастливая; этот первый напечатанный в толстом журнале рассказ должны заметить, появятся статьи на полосах газет, мнения критиков, единодушно утверждающие свежий дар одними даже заголовками «Талантливый рассказ» или «Талантливая лирическая проза». И будет радостное признание, начало известности, имя его откроется лучезарной вспышкой и станет любимым. И сбудется наконец давняя и лелеянная его мечта, как бы пришедшая из сладкого сна: он едет в метро, в троллейбусе, случайно бросает взгляд на девушку, читающую книгу, и видит свое имя на обложке, свои строчки на страницах, знакомые фразы, его фразы… «Он хлопнул дверью и сбежал с крыльца под шумящий дождь в тополях…» «Я не встречу, – сказал он грубо. – Прощай!» – «Нет, – сказала она и погладила его по плечу. – Я приеду, даже если ты не встретишь…»
Он тоже произносил тосты, пил, предлагал выпить еще, слушал стихи Вихрова, умилялся и голосом Вихрова, и его совсем на днях написанной любовной лирикой, пронзительной, грустной туманностью ощущений двух людей, его и ее, что расстались осенью на вечернем полустанке, озаренном тлеющим над рельсами закатом, думал влюбленно, что несомненно и навсегда обрел сегодня друга, единомышленника, одинаково чувствующего, одинаково понимающего, и был одновременно переполнен неизбывной радостью: «Да, мы сидим здесь, а ведь напечатан мой рассказ, и впереди еще много будет рассказов!..»
В этом летнем немноголюдном кафе они сидели до сумерек и не переставая читали стихи, с жаром и страстью говорили о вечной магии точного слова. («Слушай, слушай, какая простота и гениальность: „Звезда печальная, вечерняя звезда! Твой луч осеребрил увядшие равнины…“ Или вот: „Я помню чудное мгновенье: передо мной явилась ты…“ Это же с ума сойдешь: „Передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты…“ А ты вот вникни только: „Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, твои мне песни ветровые – как слезы первые любви!“ Написать такое – и помереть спокойно можно! Великая литература, мировые гиганты!») Спорили, соглашались, перебивали друг друга, плакали, теперь повторяя наизусть волшебные строки любимой прозы («Тамань – самый скверный городишко из всех приморских городов России…» – вот удивительное начало рассказа, вот удивительное колдовство настроения! Лермонтов бесподобен! А Чехов – как он умел заканчивать свои рассказы! Помнишь фразу: «Мисюсь, где ты?»), опять произносили тосты, пили на десерт какой-то парфюмерно-сладкий ликер, запивали его кофе, объяснялись друг другу в любви, клялись в верности литературе, глаголу и эпитету, во взаимной мужской дружбе оставшихся в живых фронтовиков («Единицы нас, Вадим, остались, единицы!») и, наконец, будто вынырнули из тумана, опомнились – голубизна сумерек сгущалась в аллеях парка. Расплатились щедро и оба встали под насмешливый шепоток официантов, – видимо, несмотря на щедрую широту платившего по счету Никитина (он искренне обиделся, когда Вихров полез за деньгами), принимали их за не совсем нормальных людей: разговор о литературе, крики, споры, слезы на глазах и обтрепанные пиджачки являли непонятное и загадочное противоречие.
А когда пошли по аллее парка, подуло предвечерней прохладой по разгоряченным лицам, Вихров, потный, возбужденный, широко расстегнув на выпуклой груди рубашку, ржаные волосы прилипли ко лбу, охватил одной рукой Никитина и в хмельном упоении, не в силах остановиться, улыбаясь чему-то, начал читать стихи Бунина проникновенным, чуть охрипшим голосом.
«Отличные стихи, – думал потрясенно Никитин, вслушиваясь в сниженный баритон Вихрова и вместе слушая счастливо поющую струнку в самом себе. – Все отлично, и мне не стыдно, что я немного пьян. Но почему мы встали и так рано ушли из такого уютного для разговора кафе?»